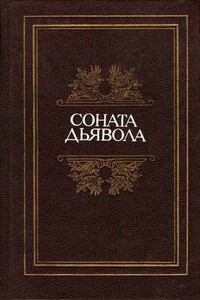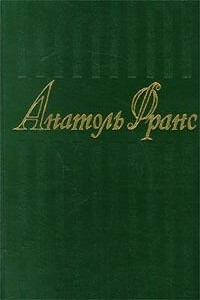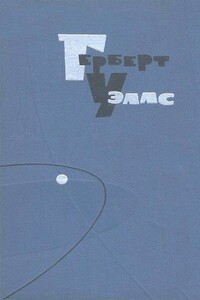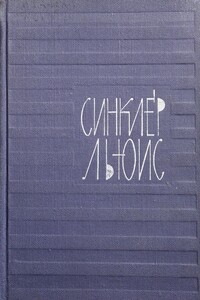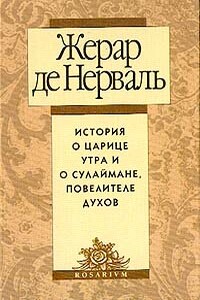Весной 1835 года мною овладело вдруг страстное желание увидеть Италию. По утрам, просыпаясь, я мысленно уже вдыхал терпкий аромат альпийских каштанов; по вечерам между кулисами маленького театрика мне то и дело чудились водопад Тер и пенящиеся струи Тевероне… Чей-то сладостный напев, подобный зову сирен, звучал в моих ушах, как если бы внезапно обрели голос камыши Тразименского озера… Мне необходимо было уехать, оставив в Париже свою несчастную любовь[1], которой я хотел бежать, от которой хотел отвлечься.
Сначала я остановился в Марселе. Каждое утро я ходил купаться к Зеленому замку и, плавая, любовался видневшимися вдали, в заливе, островами. И каждый день я встречался в лазурной бухте с юной англичанкой, и гибкое ее тело разрезало рядом с моим зеленоватую гладь воды. Однажды эта морская дева, которую звали Октавия, подошла ко мне, очень гордая своим неожиданным уловом: в ее белых руках трепетала пойманная ею рыбка, она протянула ее мне. Я не мог не улыбнуться такому подарку.
В городе между тем начиналась холера, и, дабы избежать карантинов, я решил пуститься в путь посуху. Я побывал в Ницце, в Генуе и во Флоренции; я любовался Собором и Баптистерием, шедеврами Микеланджело, а в Пизе — падающей башней и Кампо-Санто[2]. Затем, взяв путь на Сполето, я остановился в Риме и провел там десять дней; собор Св. Петра, Ватикан, Колизей — все это прошло предо мной как сновидение. Я поспешил в Чивита-веккью, где должен был сесть на пароход, но три дня подряд бушевало море, и пароход задерживался. Я ходил по пустынному пляжу, погруженный в свои мысли, однажды меня чуть не разорвали там собаки. За день до отъезда в местном театре давали французский водевиль. Внимание мое привлекла миловидная белокурая головка в ложе на авансцене. Это была та самая юная англичанка. Она была со своим отцом, выглядел он очень болезненным, врачи рекомендовали ему неаполитанский климат.
На другое утро я с великой радостью получил наконец билет на пароход; юная англичанка была уже на палубе и большими шагами ходила взад и вперед; она посетовала, что пароход движется слишком медленно, и вонзила свои белоснежные зубы в шкурку лимона.
— Бедняжка, — шутливо сказал я ей, — вам это вовсе не так полезно, я ведь знаю — у вас грудная болезнь.
Она пристально взглянула на меня и спросила:
— Кто вам сказал это?
— Тибуртинская сивилла[3], — ответил я тем же тоном.
— Да будет вам, — сказала она, — не верю я ни единому вашему слову. — Говоря это, она так нежно смотрела на меня, что я невольно поцеловал ей руку.
— Будь у меня больше сил, — сказала она, — я бы показала вам, как сочинять небылицы!..
И, смеясь, погрозила мне хлыстиком с золотым набалдашником, который держала в руке.
Наш пароход уже вошел в неаполитанскую гавань, мы плыли между Искией и Низидой, озаренными пламенеющим рассветом.
— Если вы любите меня, — промолвила она, — ждите меня завтра утром в По́ртичи[4]. Я не каждому назначаю такие свидания.
Они с отцом высадились на площади у мола, ибо должны были остановиться в гостинице «Рим», незадолго до того там выстроенной. Что до меня, то я нашел себе квартиру позади Театра флорентийцев. День я провел, гуляя по улице Толедо и набережной, посетил Музей рукописей, затем вечером пошел смотреть балет в театре Сан-Карло. Там я встретил маркиза Гаргалло[5], знакомого мне еще по Парижу, и он повел меня после спектакля к своим сестрам на чашку чая.
Никогда не забуду этого прелестного вечера. Маркиза принимала в большой гостиной, было множество иностранцев. Разговоры, которые велись, немного напоминали разговор смешных жеманниц; я чувствовал себя совсем как в голубом салоне госпожи де Рамбуйе[6]. Сестры маркизы, прекрасные, словно Грации, возрождали передо мной все очарование Древней Эллады. Шел долгий спор о форме элевсинского камня[7] — был ли он треугольным или квадратным. Маркиза и сама могла бы дать ответ на этот вопрос; она выглядела красивой и горделивой, словно сама Веста. Я вышел из их особняка совершенно ошалевший от этого философического спора и никак не мог отыскать дом, в котором остановился. Я так долго бродил по городу, что мне рано или поздно суждено было стать героем какого-нибудь приключения. Встреча, случившаяся у меня в ту ночь, является предметом нижеследующего письма, посланного мною впоследствии женщине, роковой любви к которой я надеялся бежать, оставляя тогда Париж.
«…Я места себе не нахожу. Уже четыре дня, как я не вижу вас или вижу только на людях. Тяжкое предчувствие снедает меня. Что вы были со мной искренни — в это я верю; что вы изменились ко мне последнее время — этого я не знаю, но я это чувствую… Боже милостивый! Сжальтесь надо мной, избавьте от этих сомнений, не то вы навлечете на нас какую-нибудь беду. И однако я стал бы тогда обвинять только себя самого. Я был слишком робок, я слишком выказывал вам свою преданность — больше, чем это подобает мужчине. В своей любви я был столь сдержан, я так боялся оскорбить вас ею — однажды я уже так наказан был за это, — что, быть может, переусердствовал в своей деликатности, и вы могли подумать, будто я охладел. Что ж, однажды ради вас, в очень важный для вас день, я сдержал терзавшую меня душевную муку, я скрыл свое лицо под улыбающейся маской, между тем как сердце мое пылало и разрывалось. Никто другой не стал бы так щадить вас, но и никто другой, быть может, не доказал вам в такой мере всей силы своей привязанности и не способен был бы так понимать вас, как я, и так оценить все ваше совершенство.