Зеленая жирная муха ползала по нагретому солнцем стеклу окна возле общей уборной в конце галереи, останавливаясь изредка, чтобы заняться собой. Сегменты ее выпуклых глаз неотрывно следили за маленьким детенышем тех странных двуногих, которые были врагами, как птицы, но, в отличие от птиц, создавали среду обитания мухам своими испражнениями, отбросами пищи, свалками мусора. Детеныш не двигался, но его черные выпуклые глаза также неотрывно следили за мухой, гипнотизируя ее своим умоляющим взглядом: «замри, замри, замри, замри»!
И муха замерла. Ее передние лапки замелькали, очищая голову, а задняя пара, попеременно с передними, занимались брюшком. Микробы холеры и других опасных эпидемий тысячами летели в воздух.
Мир-Джавад дышал ими, но даже микробы холеры погибали, едва они оказывались втянутыми потоком воздуха в его огромный с горбинкой нос. Два пальца левой руки семилетнего мальчишки цепко держали один конец толстой резиновой нити, а два пальца правой руки натягивали резинку за другой конец, а правый глаз намечал место для удара. «В голову, только в голову, сразу брызнет темная кровь, короткие судорожные посучивания ножек, и все кончено… А может, в живот?»
Дверь уборной звякнула, с нее сбросили крючок. Муха на мгновение замерла, собираясь улететь, но удар резинки распластал ее внутренности по стеклу, и, как муха ни пыталась взлететь, ни сучила ножками, ничего не получалось, только крылышки жужжали от величайшего напряжения, от невозможности оторваться от страшной боли, впившейся ей в тело.
Дверь уборной резко распахнулась, едва не ударив Мир-Джавада. Вышел молодой мужчина, но уже совершенно седой. Увидев Мир-Джавада, вытирающего с резинки кровь пальцами, закричал отчаянно, так, как жужжала муха:
— Опять охотишься, негодяй, больше тебе нечем заняться?.. Иди на двор, погоняй мяч, или «покалай», паук двуногий, убийству учишься, чтобы у тебя руки отсохли…
Мужчина пытался влепить Мир-Джаваду подзатыльник, но тот увернулся и закричал:
— Ба!..Сумасшедший дерется…
— Вазген!.. Что к ребенку пристал? — закричала из общей кухни пожилая толстуха, бабушка Мир-Джавада. — Из уборной вышел, руки не вымыл, — заразу разносишь, маленького обижаешь. Занимайся своими делами, каждый лезет куда не просят, своих рожай, потом им раздавай «щелля»… Приходят тут всякие приблудные, распоряжаются…
А Мир-Джавад пропищал:
— Недорезанный!..
Вазген затряс кулаками в воздухе и, зайдя в общую кухню, закричал на бабушку Мир-Джавада:
— Да!.. «Недорезанный»!.. Не убили меня, как я их ни просил, оставили мучиться, оставили не жить, а мучиться и вспоминать ту дорогу, такую же пыльную и ровную, как это стекло, и так же, как муха, на ней билась моя Ануш, на моих глазах над ней надругались, на моих глазах ей кинжалом вспороли живот, а меня привязали к столбу над ней и били, чтобы я не отводил глаз, били, чтобы я смотрел, и смеялись, как они смеялись… Да, у меня никогда не будет детей… Ты, старая женщина, думай, кого ты растишь, думай, пока не поздно…
И Вазген поплелся по веранде, бормоча: «жестокий мир, жестокий мир, в липкой паутине все, что ни вижу, солнца хочу, солнца!.. А, распятый, я кричал солнцу: „ненавижу“!..
Бабушка Мир-Джавада выразительно покрутила пальцем у виска ему вслед, показывая внуку, что у Вазгена „не все дома“. А Мир-Джавад, ковыряя в носу, мерзко хихикал…
„Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше… Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас“.
А солнце жарко светило. Город сонно разбросал по склонам горы дома, кое-как проложил между ними кривые улицы, щедро озелененные в центре и голые, грязные чуть в стороне. Вопиющая нищета соседствовала с наглой роскошью, дворцы окружали старый город, где солнце с трудом пробивалось во дворы, а в комнаты без окон оно не заглядывало. Запах сырости лежал на всем: на скудной мебели, залатанной одежде, на телах живущих здесь людей и, казалось, даже на их мыслях… А дворцы, в свою очередь, окружали жалкие домишки, где в каждой комнате жили по пять-шесть человек, где по утрам, во время игр, дети, хихикая, делились опытом подсмотренной и подслушанной близости отцов и матерей, семейных старших братьев и сестер. Эти — дома поставляли во дворцы прекрасные тела юных проституток, а в тюрьмы воров и грабителей, ибо развращенные с детства умы трудно направить на благое дело, а воровской мир нищеты, как и воровской мир роскоши, засасывает. А между двумя воровскими полюсами был мир тружеников, мир трудностей и забот, иногда светлых радостей, неподкупной и продажной любви, дружбы и предательства, дела и карьеры, доброты и зависти, ненависти и жестокости, преданности, прощения и мести. С утра мужчины уходили на работу, их ждали фабрики и заводы, лавки и магазины, учреждения и мастерские. Женщины отправлялись на базар, тонкие темно-пестрые струйки матерей и жен, сестер и невесток текли, унося в огромных зимбилях свежие зелень и фрукты, овощи и молочные продукты. Во дворы заходили браконьеры, предлагавшие черную икру и красную рыбу, фазанов и кашкалдаков, все по такой доступной цене, что вынужденные на всем экономить люди расхватывали в пять минут весь принесенный товар, хотя прекрасно знали, что скупают ворованное. И эта двойственность лежала на всем: родители лгали детям, дети — родителям, правительство — народу, народ — правительству, и правда запуталась в этом лабиринте лжи и обмана и отчаялась уже увидеть свет истины. Природный закон выживаемости и отбора выбрасывал за пределы жизни слабых, наивных, страдая, добрые и отзывчивые получали за доброту и отзывчивость зло или насмешки в лучшем случае, жестокость, их безжалостно использовали в своих целях и выбрасывали, как ненужный хлам: шкурку очищенного апельсина, разбитую на мелкие куски тарелку из грубого фаянса… А из старинного фарфора тарелку, если разбивалась, бережно склеивали и ставили на видное место, хвастаясь императорским вензелем, словно приобщаясь к царской фамилии, чувствуя свою исключительность… Это чувство было неистребимо, если оно появлялось: зараженный им искал таких же больных… так наркоманы узнают своих по блеску глаз, по особому, только им присущему взгляду, по запекшимся губам. Союз исключительных был беспощаден в своей неуязвимости, и его мог уничтожить только такой же союз исключительных. Город, словно Кронос, пожирал своих детей, но не родился пока Зевс, чтобы низвергнуть его в тартар.
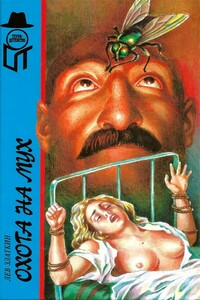

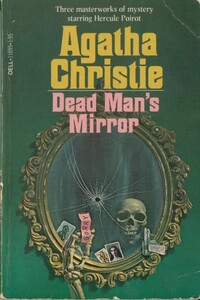


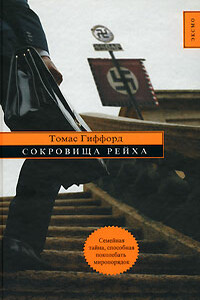



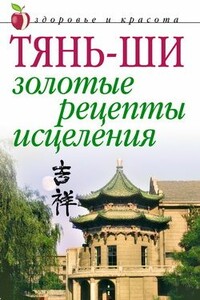



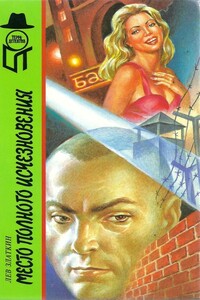
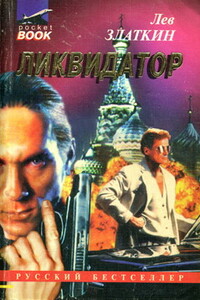
![Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге]](/storage/book-covers/71/71e8eea4a919c08421688ce05975f85e8181c875.jpg)