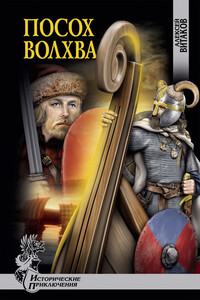1
Похоронке она не поверила.
Соседка Нюся, уборщица на почте, принесла ее, когда все вокруг было уже вверх дном. За соцгородом время от времени бухали взрывы, серая пыль ходила тяжелыми тучами, и за окнами надрывно, утробно ревели отгоняемые на восток непоеные стада. Еще накануне, будто бы наступая, строем и с песней прошли через город свеженькие войска, а потом всю ночь и весь день ехали и брели назад — рваные, в грязных бинтах и такие пропыленные, что одни глаза посверкивали на черных, будто у негров, лицах. С утра горела вторая школа, никто ее не тушил.
Долго ли в такой вот суматохе перепутать что-то в серой бумажке, посылаемой безответной бабе? Да и слишком уж, выходило, мало повоевал ее Яша — недельки три. Разве так бывает? На него непохоже, он задиристый…
Она, конечно, поплакала, но и того не дали толком — опять прибежала Нюська, сказала, что разрешили брать с элеватора пшеницу. Побежали в Суслицкое, но элеватор уже горел, пламя гудело, ухало, кто-то там истошно вопил — должно быть, не мог выбраться. Говорили: прилетал немец, бомбил. Бабы стояли, уронив руки, смотрели, как расползается по небу жирный копотный дым, и, верно, не ей одной потом долго в самых страшных снах являлся этот запах горящего хлеба.
Через два года война с грохотом прокатилась назад. В оккупации вся жизнь заморозилась как-то, заклякла: одни страхи, слухи, внезапные облавы, — и вот все отошло, повернуло на прежнее. С осени открыли школу, ее взяли уборщицей, или, как говорили тогда, нянечкой, выдали карточки на нее и девчонок, и стало ясно, что раз уж до этого дня дожили, то можно опять рассчитывать жизнь на годы вперед. Даже крыша над головой появилась. Нахаловкой вселилась она в барак для дорожных рабочих; сильно шумели, грозили, а назад в погреб ее с детьми все ж не выселили. И то — их дом сгорел начисто. Нечего было и мечтать поднять его одной, без Яши.
Чуток обжившись, опять она наладилась ждать, и теперь уже основательней, терпеливей. Штаны его и две уцелевшие рубашки выстирала, погладила и сложила в самом нижнем ящике комода. Раз все вокруг поворачивало к прежнему, значит, должен был и Яша прийти, а как же иначе?
После Победы жила какое-то время как в судорогах, часа не могла высидеть, бегала вечерами на станцию, встречала эшелоны, часто плакала от чего-то смутного, не выразимого словами. Солдатики угощали ее девчонок сахаром, хлебом… А потом и это все отошло. Был страшный сорок шестой, картошка сгорела, у Любки опухали ножки, Анка схватила воспаление легких, потому что топили кукурузными будылками, за которыми надо было ходить далеко в степь, таскать мешками. Той зимой хлебнула она, может, горше, чем в оккупации, и в лихую минуту, к весне, жадная толкучка подстерегла, выхватила из ее рук последнее Яшино барахлишко. Картошку, что на него выменяла, съели за два дня, но она все равно ждала, ждала…
Только в пятьдесят каком-то, уж не упомнить каком… К Тоне Лощилиной со второго поселка вернулся как раз тогда сын, перемещенный и побывавший аж в Аргентине, и была шумная встреча, много было пролито бабьих слез. Вот со встречи этой вернувшись и вспоминая рассказы о стране, что лежит по другую сторону земли и несхожа с нашей даже травой и деревьями, она вдруг заплакала и сказала себе: «Всё! Мабуть-таки Яшеньку убили!» — и стала потихоньку прилаживать себя к этой мысли, пока еще необозримой во всем своем объеме и страхе.
Девчонки были уже большие, учились в техникуме. Она так крутилась по разным делам, что на неделе и видела-то их редко. Когда в ближайшее воскресенье перед обедом она, собравшись с духом, все же сказала им, что «папочку нашего, мабуть, убили», они не заплакали, а переглянулись. «Мамо, — сказали, — та вы шо? Чи вы думали, що вин жив?»
Девчонки ее выросли разными. Спокойная, обстоятельная Анка сразу же, через год после техникума, вышла замуж, а вот с Любкой-бесенком хлебнула она слез, но и той, хоть не сразу, а тоже повезло на хорошего человека, и ее жизнь выпрямилась, потекла ровно, радуя материнское сердце. Внуки поспевали один за другим, занимая руки и мысли, не давая особо себя помнить и горе свое тешить. Только иногда, в свой день рождения или в какой большой праздник, когда все собирались вместе и было шумно, тесно, ребятня затевала беготню и визг, когда зятья, красные от выпитого, уже боролись на локотках, а дочки выхвалялись своими домами… В самую такую минуту она вдруг исчезала из-за стола и, запершись в чуланчике, плакала, что Яши вот нет и никто ей не скажет: «Ну, Фроська, ты у меня и баба! Всем бабам баба!» А ведь теперь-то самое и сказать бы про нее эти слова — какую семью подняла!
Наплакавшись в чулане, успокоившись и умывшись, она возвращалась к столу и издалека, с подходцем, заводила, что вот надо бы съездить, поискать папину могилку. Люди многие ездят теперь, находят. Дочки не спорили, вздыхали: «Надо бы!» — да всё откладывали — своя у них жизнь кипела в самой золотой и сочной поре, недосуг было. Да и как ты найдешь ту могилку «в районе села Рогачек», когда там, может, и холмика давно нет и запахано все.
Все ж таки она съездила. Пожилые бабы, сидевшие на крылечке рогачинского магазина, вместе с нею поплакали, объяснили, что могилок раньше было много по всей степи — «народу тут накрошили и отступая и наступая, насиделись мы, натряслись в погребах», — да потом все останки свезли до школы, сделали одну большую могилу с памятником.