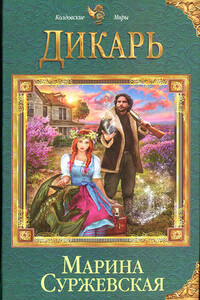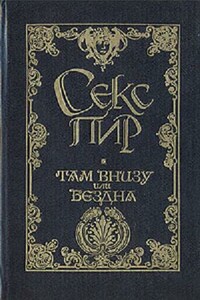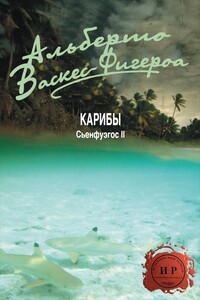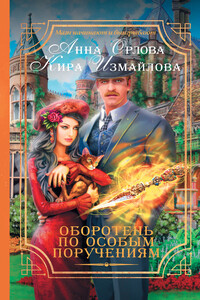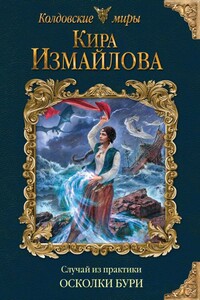В лицо хлестал колкий снег, не было видно ни зги. Ветер продувал насквозь, теплая шаль давно потерялась в пурге, подол изорвался о ветки кустарника, в который я забрела, плутая почти что вслепую. Один башмак потерялся в сугробе, у второго оторвалась подошва, пришлось бросить и его. Чулки порвались, и ступни горели огнем, словно я ступала по раскаленным углям — странно, снег ведь такой холодный! А пальцев я уже не чувствовала вовсе. И к лучшему. Раз, упав и пытаясь подняться, я увидела свой кровавый след, быстро пропавший в поземке…
Я провалилась в овраг и чудом выбралась оттуда, не переломав ног, но теперь я была в снегу с ног до головы, и одежда уже не спасала от пронизывающего ветра. Но я шла вперед, спотыкаясь, падая и поднимаясь, потому что знала — если я не встану, то замерзну уже наверняка.
Кажется, мне удалось выйти или на дорогу, или на поле: снега по-прежнему было много, но под окоченевшими ногами ощущалась относительно ровная земля, а не бесконечные кочки и канавы, коварно выступающие узловатые корни и спрятавшиеся в сугробах кусты. Быть может, поблизости есть какое-нибудь жилье? Да пусть бы и стог сена — хоть немного обогреться, не чувствовать обжигающего ледяного ветра!
Впереди вдруг появилось что-то темное, и я, пытаясь разлепить обледеневшие ресницы — слезы замерзали на щеках, — в страхе подумала, что вьюга вновь закружила меня, и я опять свернула в лес и наткнулась на дерево…
Но чу!.. Сквозь посвист ветра я различила скрип снега, звяканье — и из снежной круговерти вдруг показалась лошадиная морда. Конь шумно всхрапнул, отпрянул и заржал, вскинувшись на задних ногах, а я, отшатнувшись, упала наземь.
Люди! Неужели это взаправду?
Если бы я могла, то позвала бы на помощь, но голоса не было. Сейчас они проедут мимо, не заметив меня, и тогда мне уж точно придет конец…
— Тише, тише! — услышала я. — Что с тобой?
— С вами все в порядке, господин? — окликнул кто-то еще, и я увидела еще несколько смутных теней — это были всадники.
— В полном, — отозвался тот, — только Шварц что-то заартачился.
— Позвольте, я поеду вперед, господин. Может, ему не по нраву пурга?
Второй конь едва не наступил на меня, но вовремя остановился, всхрапнув.
— Ого!..
— Что там, Ганс? — нетерпеливо спросил первый всадник.
— Человек, господин! — Второй тяжело спрыгнул наземь.
Мужчина наклонился надо мной, смахнул перчаткой снег с моего лица…
— Это женщина! — крикнул он через плечо. — Совсем молодая и… да, еще живая, господин! Во всяком случае, дышит и вроде бы в сознании!
— Вижу… И что же ты медлишь? — раздалось сверху. — Бери ее в седло!
— Как прикажете, господин.
— Да закутай хорошенько, возьми хоть мой плащ…
— Уж обойдусь своим… — буркнул тот. — Эй, Марк, ну-ка, снимай обмотки — девка босая, поморозится совсем! Давай, поживее, а то и я окоченею, ишь, ветер какой, будто ведьмы бесятся!
— Оставь, Ганс! — окликнул первый. — Давай ее сюда. Помоги, мне не справиться…
— Сударь, но…
— Делай, что я говорю! И давайте-ка, прибавьте ходу!
— А те трое?
— Небось не отстанут, — непонятно ответил мужчина. — Погоняйте!
Что делали со мной, я уже не чувствовала. Помню только, как меня подняли на руки и взгромоздили на лошадиную спину, а потом меня окутала тяжелая шелестящая ткань, еще хранившая тепло владельца. Ну а стоило мне немного отогреться, как я канула в беспамятство и не запомнила ни бешеной скачки («Погоняй, Ганс, погоняй!» — слышала я время от времени сквозь посвист ветра), ни того, что было потом.
* * *
Если я и приходила в себя, то ненадолго, и тогда в горло мне лились горькие настойки, бульон и терпкие травяные отвары. Все тело болело, будто меня избили палками, я горела и задыхалась, словно стояла у столба и под ногами у меня пылал костер…
— Не выживет, — слышала я иногда сквозь пелену беспамятства. — Куда там!
— Как знать, с виду-то хлипкая, а такие, бывает, крепче иных дородных…
Это были женские голоса, видно, говорили те служанки, что поворачивали меня, беспомощную, с боку на бок, обмывали меня и меняли белье.
— Ну что? — услышала я однажды мужской голос, тот самый, что принадлежал всаднику… как звали его коня? Шварц? Да, Шварц… А наездника называли господином, это я помнила. — Как она?
— Будем надеяться, пойдет на поправку, сударь, — ответил кто-то. Этот голос принадлежал человеку немолодому, должно быть, лекарю. — Видно, этой девушке пришлось немало пережить, но она отчаянно цепляется за жизнь, и мой долг — помочь ей удержаться на этом свете.
— Уж постарайтесь, мастер, — негромко произнес первый мужчина. — Я, признаюсь, хочу узнать, кто она такова и что делала в такую пургу вдали от дома.
— Будем надеяться, сударь, она сумеет поведать об этом, когда очнется, — сказал лекарь. — Но я могу сказать вам наверняка: она не простолюдинка. Она была разута, а ноги ее — изранены в кровь, но сразу видно — прежде этой девушке не приходилось ходить босиком иначе как по мягким коврам. А это? — Я почувствовала, как он взял меня за руку и повернул ее ладонью вверх. — Ногти обломаны, кожа исцарапана, но взгляните сами — эти руки никогда не знали работы!