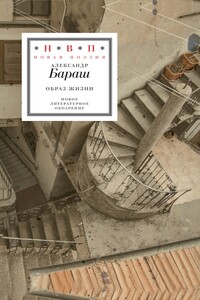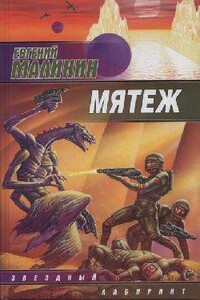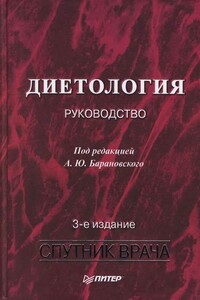Ничто не знает в мире постоянства,
У времени обрублены концы,
Есть только ширь бессмертного пространства,
Где мы и камни – смертные жильцы.
Иван Елагин
В эссе Зигмунда Фрейда с труднопереводимым названием «Unbehagen in der Kultur» (1929; заглавие в русских изданиях передается то как «Беспокойство в культуре», то как «Недовольство культурой») есть удивительный фрагмент:
Сделаем… фантастическое предположение, будто Рим – не место жительства, а наделенное психикой существо – со столь же долгим и богатым прошлым, в котором ничто, раз возникнув, не исчезало, а самые последние стадии развития сосуществуют со всеми прежними. В случае Рима это означало бы, что по-прежнему возносились бы ввысь императорский дворец на Палатине и Septimontium Септимия Севера, а карнизы замка Ангела украшались теми же прекрасными статуями, как и до нашествия готов и т. д. Больше того, на месте Палаццо Каффарелли – который, однако, не был бы при этом снесен – по-прежнему стоял бы храм Юпитера Капитолийского, причем не только в своем позднейшем облике, каким его видели в императорском Риме, но и в первоначальном облике, с этрусскими формами, украшенном терракотовыми антефиксами. <…> Нет смысла развивать эту фантазию далее – она ведет к чему-то несообразному и даже абсурдному. <…> Гипотеза о сохранности всего прошедшего относится… к душевной жизни – при том условии, что не были повреждены органы психики, их ткань не пострадала от травмы или воспаления. Но… самое мирное развитие любого города всегда сопровождается разрушением и сносом зданий, и уже поэтому история города изначально несопоставима с душевным организмом[1].
Странен этот фрагмент потому, что Фрейду – не только основателю психоанализа, но и большому ценителю итальянского искусства Возрождения[2] – кажется, хотелось увидеть именно такой, многослойный, распределенный во времени город. Но психолог отказывается признавать ценность своей метафоры и говорит себе «стоп», словно ставит «nicht» в конце фразы, или ведет себя в этом тексте подобно юношам из восточной притчи, отвечающим на вопрос путника: «Белая верблюдица? Беременная? С поврежденным копытом? Нет, не видели».
Живущий в Израиле поэт и прозаик Александр Бараш изображает в своих стихах города, руины, исторические локусы подобно тому, как Фрейд описал бесконечно меняющийся и никуда не исчезающий Рим – именно с такой мотивировкой, как это сделал автор «Толкования сновидений»: ни в психике, ни в населенном мире ничего не исчезает, несмотря на бесконечные уничтожения, и все разрушенное взаимодействует со всем, что сохранилось. Из фрейдовского отрицания Бараш делает утверждение: вот такой может стать продуктивная модель постижения мира и своего места в нем для современного человека, который на глазах перестает быть туристом или эмигрантом и в условиях глобализации превращается в вечного странствователя, homo transitus, перемещающегося от одной точки встречи в другую. Историк культуры Ханс Ульрих Гумбрехт вводит метафорический термин «эпифания», означающий переживание нового опыта как откровения. Сам Гумбрехт[3] определяет «эпифании» (в его значении) как «моменты [психологической] интенсивности». Для литературы путешествий очень важно описание «эпифаний» от встречи с новым местом[4]. Сам Гумбрехт показывает «эпифанию» как переживание в первую очередь неформализуемое, не сводимое к интерпретации, но можно развить его мысль и иначе, чем это сделал он сам. «Момент интенсивности» может быть и интерпретирующим: новое – или увиденное по-новому – локальное пространство понимается, «читается» как сосредоточенное выражение жизней всех тех, кто населял его прежде и населяет теперь. Новым местом, заслуживающим описания, для Бараша может оказаться даже соседский балкон с сушащимся на нем бельем («День независимости»), потому что это белье одновременно визуально эффектно и символично.
Разные временные слои для Бараша всегда просвечивают один сквозь другой, и какой из них увидеть – вопрос только личного выбора. Однако эта интерпретация всегда сохраняет «нерастворимый остаток» чувства тоскливого восторга, свидетельствующего о том, что в каждой встрече есть уникальный опыт, не поддающийся чтению и сравнению.
Счастье непознаваемости.
Восторг недоумения.
Тоска от красоты природы.
Переполненность пустотой.
Один из ключевых мотивов этой книги – приезд на новое место как повторение молодости, открытия неизвестных возможностей. Для персонажа (персонажей?) Бараша такие перспективы – возможность читать неизвестное пространство, изменяя свое «я». Одинокий и старинный процесс чтения-вглядывания, населения пейзажа личными значениями предстает в его стихах как бешено движущийся транспортный узел:
Так много сбивающихся в кучу связей,
что в мозгу возникают помехи в движении ассоциаций,
как на дорожной развязке; пробка в горле, гололед
на трассах взгляда – —
Герою стихотворений Бараша свойственен постоянный визуальный голод. Пожалуй, из всех современных поэтов Бараш в наибольшей степени близок к эстетике экфрасиса – описания картины, в которую могут входить не только архитектурные шедевры, но и память о советских впечатлениях, и, например, поездка на автомобиле новой марки или прогулка с псом.