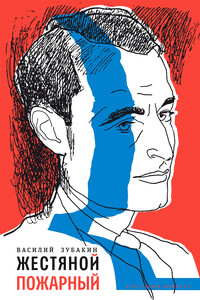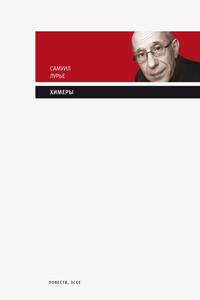В последнее время Егор Петрович Вохрин часто жаловался на сердце. То сожмёт у него где–то там, за грудиной, то кольнёт вдруг так, что побледнеет весь, покроется липким потом, скулы обострятся, глаза засветятся опасным тревожным блеском… А недавно даже отпросился с работы. Совсем худо ему сделалось. Вохрин у меня в отделе был самым толковым, самым надёжным сотрудником. Молодые ведь теперь после института сущими дубаками на завод приходят, «наварить», подкалымить тут, как правило, негде, вот они и просиживают штаны попусту, ничего не знают и ни одного производственного вопроса толком решить не могут, скучно на часы поглядывают, а чуть что — так к Вохрину: помоги. Он ругался, но помогал. Был это мужик отзывчивый, грамотный. Ему недавно пятьдесят девять стукнуло, но о пенсии я Вохрину и думать запретил. Два цеха у него кормилось…
Ну вот: отпросился он домой с работы. Я, конечно, отпустил. Взял с него слово, что в понедельник он к врачу пойдёт, и отпустил. Он всё твердил, что не время теперь по больницам ходить, пора огородом заниматься.
— Вот и ладно, Петрович, — говорю. — Ловлю тебя на слове. Если оклемаешься — звони. На дачу вместе поедем.
Дачные участки у нас рядом. Это удобно. Хорошо, когда сосед надёжный под бо–ком есть. Этот в чужой малинник за ягодой не полезет. А Вохрин ведь какой: своё хозяйство, к примеру, поливает — и о соседе не забудет. А после работы на пару с ним очень даже неплохо по стопочке принять. Ему, правда, не очень–то разгуляться, он ведь еще и гипертоником был, но компанию всегда поддерживал. Выпьет чуть–чуть и сидит, о том о сём философствует. И собеседником был душевным. Садовый участок — это ведь не только для работы. Отдыхать тоже когда–то надо.
В воскресенье всё–таки поехали с ним. В груди отпустило у него, повеселел мой Петрович, азартно за клубнику принялся. Сначала молчали. Задницы к небу задрали и давай сор с грядок дёргать. День был солнечный, тихий. Только в лесу, совсем рядом, в сотне метров от участка, орали птицы. Именно орали! Одна–две птички — поют, а если тыща глотки свои раскроет — так это вопль уже какой–то. Впрочем, понять это несложно: брачный сезон у пташек, тут, братец мой, не зевай…
Не помню, кто из нас заговорил первым. Сначала о политике, об экономике завели привычную песню, а затем как–то бочком, бочком к Чечне подступились. Тут, надо сказать, я Вохрина никогда не понимал. Правильно, говорит, что войска в Чечню ввели. А как же иначе, мол? Им, мусульманам, дай только волю. Сегодня, дескать, Чечня отделяться захочет, завтра Татарстан, а послезавтра башкиры засуетятся. И тогда с чем же мы, коренные россияне (он это слово зычно произнёс, со вкусом — «россияне») — с чем, говорит, мы останемся? С гулькиным хреном? Земля все это российская, говорит, наши предки её к рукам прибрали — полистай, говорит, Карамзина, Костомарова, — так уж будьте любезны подчиняться вековому порядку, господа якуты и прочие тунгусы… А не хотите по–людски, так мы можем и силу применить!
— Да какая там, к богу в мать, сила? — возразил тут я. — Второй уж год волынка эта тянется.
— В том–то и позор, — отвечает. — Кому–то эта война — мать родна, очень выгоду большую даёт, а пацаны зря гибнут… И всё равно, ни за что не поверю я, что наша мощная, выученная армия не в силах справиться с чеченскими бандами! Что–то тут не то.
— У американцев тоже армия сильная, а Вьетнам не сломали.
— Вьетнамцев весь мир поддерживал! Ты думаешь, они сами справились бы?.. Нет, нельзя нам выводить войска из Чечни. Ни в коем случае! Надобно непременно рога кое–кому пообломать, чтоб другие и в мыслях не допускали даже… И тогда снова житуха в прежние свои рамки возвернётся, всё кругом надёжным сделается и привычным… вот как это небо, это облачко над головой — такое мирное, такое спокойное…
— «Облачко», говоришь? — ухватился я за слово. — Что ж, ты это верно подметил. Именно — облако… Потому что как вот это небо с облаками — над каждым из нас, хотим мы этого или не хотим, так и чеченская война — никого не пощадит, всех коснётся, абсолютно всех. Да что там — уже коснулась, только не всякий это понимает…
— Известное дело, — неопределённо отозвался Петрович, продолжая дергать сорняк с грядки.
Вохрин вырос в деревне, а лет в семнадцать подался в город, сначала в техникум, потом в институт, — но корни свои не забыл, всё тем же деревенским мужиком остался, степенным, рассудительным и — упрямым. Да и в речи его то и дело словечко какое простецкое проскачет — мы уже привыкли к этому…
— Прежде, Егор Петрович, не замечал в тебе эту кровожадность, — поддел я его. — Всегда был ты мужиком добрым, мирным.
— Пойми же, Паша, — ответил он с неожиданной горячностью и болью, — обидно мне! Вот хоть что хочешь делай со мной… Всю жизнь гордился своей страной, армией…
— Петрович, а сына своего послал бы туда? — спрашиваю. — Сам ведь говоришь: дело справедливое, защита Отечества и так далее…
— Мой сын уже выполнил свой долг! Конечно, я боялся отпускать его. В те годы как раз Афган свирепствовал, а еще о дедовщине сказывали страшное… Но что было делать? Это ведь сегодня возник такой национальный спорт: косить от армии, — а тогда поди попробуй. Удавалось только единицам.