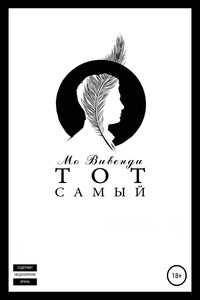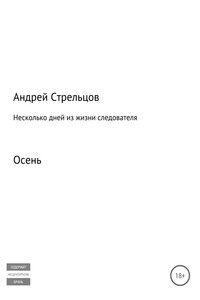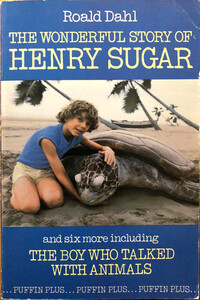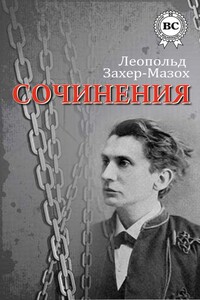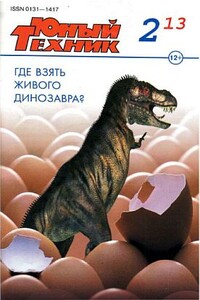Александр Шленский
Обезьяна и бочка
Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой - счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она - Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я - Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она - Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей!
Чжуан-цзы
В самом сердце центрально-американского континента, в густых тропических джунгях, на влажную землю которых никогда не ступал человеческий глаз, днем и ночью не смолкает жизнь. Там длинные цепкие лианы страстно обвивают высокие стебли бамбука и баобабов, и резвые проворные макаки качаются на них, визгливо переругиваясь с гамадрилами на непонятном языке. А гамадрилы в ответ скалят свои собачьи морды, злобно взлаивают и рычат. Там стремительный полосатый гепард несколькими могучими прыжками загоняет на дерево быстроногую лань, а гиены жутко воют по ночам, разрывая могилы солдат ее величества, и с хрустом пожирают кости мертвецов.
Там по кустам и оврагам ползают огромные мохнатые пауки. Одна лапа такого паука толще чем клювик птички колибри, которую он съедает в два укуса, набрасываясь на нее прыжком в тот момент, когда она зависает над цветком, изображая миниатюрный вертолет. Там жуки-светляки светят по ночам так ярко, что можно читать самый мелкий шрифт, а из зарослей непрерывно раздается чье-то сопение, чавканье и хруст, напоминая о том, что кто-то кого-то ест. И это хорошо, потому что если никто никого не будет есть, то все останутся голодными, а голодные звери чрезвычайно злобны и опасны.
Процесс взаимного поедания отрепетирован за долгое время до невероятного совершенства. Один поймал другого и торопливо его ест, отплевывая перья, когти и зубы поедаемого, а над ним уже стоит с разинутой пастью третий, чтобы съесть первого, когда он закончит есть второго. Третьего тоже съедят, и четвертого, и пятого. Но всех не съедят никогда, потому что в течение короткого промежутка между взаимным поеданием, звери как-то успевают размножаться. Существо, на девяносто процентов состоящее из зубов, каким-то образом вспоминает о наличии у него половых органов, а вспомнив, грубо и нагло лезет на самку, прижимая ее к кишащей муравьями земле, что-то при этом дожевывая, чавкая, сопя, хрюкая, рыгая и сглатывая мутно-ядовитую слюну. При этом самка устало и обреченно поднимает склизкий зад, ерзает и вибрирует, чтобы все поскорее кончилось, и с ее натруженной спины убрали когти или копыта.
Вот так они и живут, и от этой жизни над джунглями постоянно поднимается зловонный липкий пар, который с трудом рассеивается под лучами палящего солнца. А на вершине самого высокого баобаба в удобном сплетении сучьев сидит огромная печальная обезьяна с длинными волосатыми руками. Она каждый день смотрит сверху на всю эту суету и скалит свои большие желтые зубы тоскливо и злобно.
***
С таким же точно выражением смотрел крановщик Иван Иванович Непрухин из кабины своего козлового крана, держась за ржавые рычаги длинными волосатыми, слегка дрожащими руками. Стройка в те времена представляла собой кипящий муравейник. Кто-то куда-то что-то тащил, что-то к чему-то прибивали, приколачивали, приваривали автогеном, заливали цементом и гудроном, потом разбивали ломами и отбойными молотками и опять заливали цементом. Ходили по лестницам вверх и вниз, опрокидывали на ноги носилки с раствором, отрывали заскорузлые мозолистые пальцы ржавым тросом с мочалистыми узлами. В перерыве между этим рыли и закапывали котлованы, выстраивали терриконы красно-рыжего кирпича, а самосвалы насыпали курганы из гравия и щебенки, и над всем этим носились невероятные тучи дыма и пыли, а также множество коротких слов, орфография которых не вызывает сомнения. Иван Иванович, сидя на самом верху, перхал от пыли и копоти, а из всех произносимых внизу слов непосредственно к себе относил только два - "вира" и "майна". От долгого сидения в кабине козлового крана он совершенно позабыл другие слова. Когда у Ивана Ивановича родились дочки-двойняшки, он назвал одну Вира, а другую - Майна.
Теперь эта стройка умерла, кирпич и щебенка давно разворованы, котлованы обвалились, и в наступающих грустных сумерках недостроенные здания свирепо и печально зияют глазницами неостекленных окон, как черепа неотомщенных мертвецов на шабаше неуспокоенных душ. А на ржавом крюке, свисающем со стрелы козлового крана, со скрипом покачивается большая железная бочка с уродливыми, много раз проваренными швами и помятым дном. В этой бочке лежат окаменевшие перчатки, ботинки и спецовка, которые Иван Иванович всегда прятал таким образом, оберегая от воров, да так и оставил навсегда.
Стройка умерла, и джунгли тоже понемногу отступают под натиском человека, который бросает старые стройки и затевает новые. Но все же пар над зарослями пока клубится, и могучая старая обезьяна смотрит на все это сверху выпуклыми печальными глазами. Иногда она представляет себя усталым старым крановщиком на непонятной стройке, и тогда она внимательно вслушивается в хруст и рычание, доносящиеся снизу. Но никто не говорит ни "вира", ни "майна", и обезьяна начинает понимать, что она вовсе не крановщик, а просто старая обезьяна, и что в руках у нее не рычаги, а ветки баобаба, которые ничего не поднимают и никогда не заржавеют.