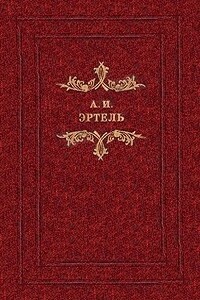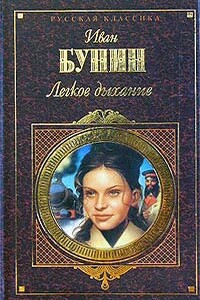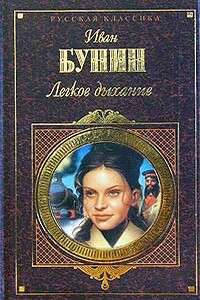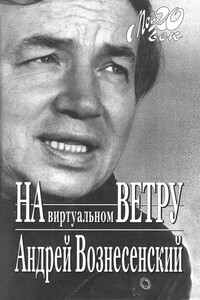А.М.Горький
О С. А. Толстой
Прочитав книжку "Уход Толстого", сочинённую господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдётся человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения - опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.
Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет ещё одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя её - Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой "правды" считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же - я думаю - для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.
Нижегородский портной Гамиров говаривал:
- Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения.
Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют "правды" для искажения друг друга. И, кажется, мы так неутомимо пеняем друг на друга потому, что человек человеку - зеркало.
Меня никогда не прельщало исследование ценности тех "правд", которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дёгтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую её.
Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мёртвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, - об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.
Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.
И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, чорт их возьми, сделаются честными людьми, - что же тогда с нами будет?
Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди "к добру и злу постыдно равнодушны", они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.
Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:
"Русская женщина - вот лучшая женщина мира!"
Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:
"Вот - р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!"
Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к "лучшей" женщине Европы.
Признав русскую женщину "лучшей", мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить её покраснеть.
Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.
Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но он перестаёт мешать нам жить, и, не чуждые - в этом случае - чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нём, бесспорно - приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение - самое лучшее, что мы можем дать живому и мёртвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей - лучше, жизнь - гуманнее.
Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести и лицемерием нашем морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.
Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался её симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Её отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но - не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших её великомученика мужа, как мух, комаров, вообще - как паразитов.
Возможно, что ревность её иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню "Пустынник и Медведь". Но будет ещё более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в "Дневнике" 1882 г. он записал об одном знакомом своём: