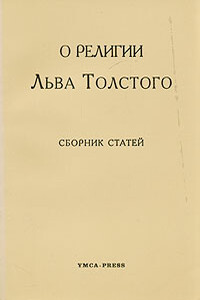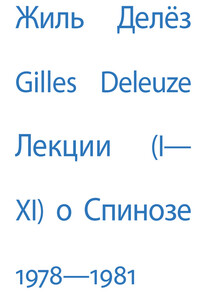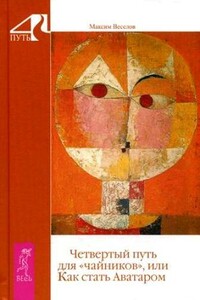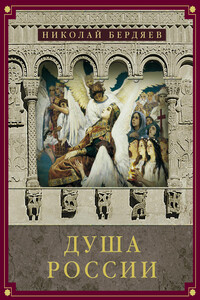____
«Пословица говорит: об умерших говори доброе или молчи. Я думаю, что наоборот, надо не говорить дурного о живых, потому что это может сделать им больно и испортить их отношения к живым; но о мертвых, о которых принято говорить льстивую ложь, ничто не мешает говорить полную правду» (Л. Толстой в «Круге Чтения», 6 ноября, 2, II, стр. 434).
Да послужат эти мудрые слова эпиграфом к настоящему сборнику статей о религии Л. Н. Толстого. Этому сборнику одинаково далеки как условно панегирические, так и условно апологетические задачи. Его участники испытывали потребность прежде всего понять религиозное самосознание Толстого из него самого, с тем чтобы далее оценить его при свете собственного религиозного мировоззрения. Таким образом, ими руководил при этой работе исключительно религиозный интерес. Судьба Толстого, как проповедника религиозного жизнепонимания в нашем обществе, поистине беспримерна и исключительно печальна: наряду с повальным, прямо эпидемическим поклонением пред его именем, как будто не допускающим даже прав критического анализа, каким-то фетишизмом, наблюдается поразительное, прямо кощунственное равнодушие к религии вообще, а в частности и к тем религиозным ценностям, которыми жил Толстой. Эта канонизация непримиримого иконоборца, с культом реликвий, с явным желанием превратить биографию в житие, окутать ее дымкой легенды, красноречивее всего свидетельствует о том, как далеки самым его излюбленным идеям, существу его религиозной проповеди теперешние официальные его почитатели. И чем серьезнее и значительнее будем мы представлять жизненное дело Толстого, тем неуместнее и фальшивее покажется нам вся эта шумиха, это захваливание и зацеловывание вместо обсуждения его дела по существу, — ведь право же, Толстой заслуживает этого.
В этом смысле задача настоящего сборника — представить соображения для критического анализа религиозного мировоззрения Толстого — продиктована почтительным к нему вниманием со стороны всех, принявших участие в сборнике. Правда, среди них нет ни одного, кто мог бы считать себя религиозным последователем Толстого, но нет и ни одного, кто не признавал бы религиозной значительности его жизненного дела. Религия Толстого не есть наша религия. Отвержение им веры во Христа как Сына Божия, Спасителя и Искупителя, и в Его Церковь, живое тело Христово, проводит непроходимую грань между религией Толстого и нашим пониманием христианства. И надо не сглаживать, но полнее выявлять это различие во всей его глубине во имя религиозной сознательности, ясности и определенности в наше время всяких подделок и смешений. Но насколько бесспорно то, что религия Толстого не есть христианство, столь же неоспоримо, что он жил этой своей религией, и, надо сказать больше, жил только религией, и это в наши дни, в нашем «просвещенном» обществе, погрязающем в беспросветном религиозном индифферентизме. Это, конечно, не была жизнь во Христе, но это была, хотя и с болезненными вывихами, все-таки жизнь в Боге. И именно это-то и придает жизненному делу Толстого такую религиозную значительность и возбуждает к нему религиозный интерес. Он есть живой свидетель религии, стоящий пред лицом всего мира, носитель некоего, хотя и низшего, «естественного», но все же религиозного откровения, подобно тем великим мужам, которым дано было возвещать людям о Боге вне христианского откровения. В его отталкивании от христианства, в глухоте к его зову выражается религиозная ограниченность Толстого и его противление Христу, печать духа антихристианского, но в его постоянном устремлении к Богу, в его живом богоощущении выражается его подлинное, религиозное призвание.
Живая религиозная личность Толстого со всеми своими бесчисленными противоречиями, остается загадкой, которую каждый по своему разгадывает, по необходимости внося в это разгадывание и содержание своего собственного духовного опыта. Вот почему, между прочим, в разных статьях этого сборника, при общности основных религиозных мотивов, отражается и различие индивидуального восприятия личности Толстого, и было бы прямо бессмысленно стремиться к тому, чтобы стереть эти индивидуальные черты, в которых выражается непосредственность личного переживания.
Насколько мы, живущие, стараемся искренно разобраться в религиозном мировоззрении Толстого, отделить в нем правду от лжи, добро от зла, временное от вечного, мы продолжаем, в меру сил своих, и его собственное религиозное дело. Исповедуя бессмертие души и ответственность каждого за все сделанное им в этой жизни, мы не можем отрешиться от мысли, что такая работа не остается безразлична и для самого отшедшего, и для той неведомой нам жизни, которая составляет удел его в ином мире. И насколько нам, живущим, удается раскрывать себе и другим его заблуждения, соблазняющие людей, приносящие вред их душе, мы тем облегчаем и его отягченную этим сознанием совесть, а насколько мы принимаем в свою душу добро, им в мире посеянное, то и в его душе это добро возрастает. Нам кажется, что такое отношение более соответствует и собственному религиозному миропониманию Толстого, нежели модное поклонение ему, соединяющееся с внутренним равнодушием.