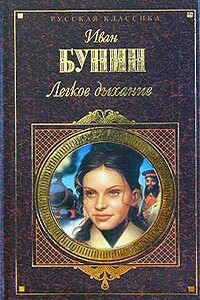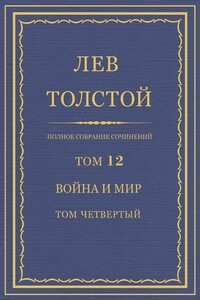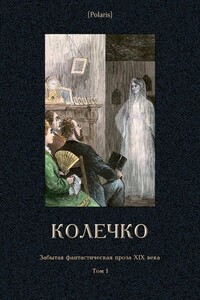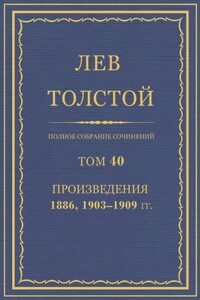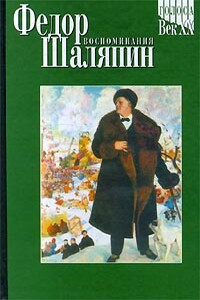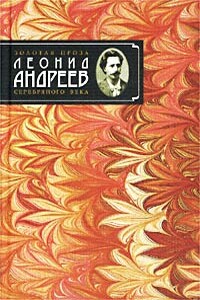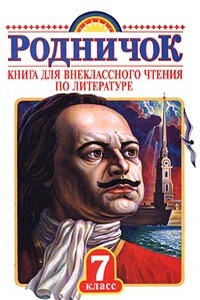Брр… Холодно. Еще только сентябрь на дворе, а уже заморозки начались, и каждый день идет снег, то хлопьями, мокрый, тяжелый, то сухой и колючей крупой. Беда всем, у кого нет теплого приюта, у кого дрова на счету и в закладе теплая одежда. Беда и деревьям в лесу. Я ехал на днях по железной дороге, и так жалко было смотреть на застигнутый ранней зимой лес. Нет в нем пышных красок золотистой, солнечной осени; в холоде, без солнца, под ударами ветра бьются и отрываются потемневшие, скрюченные листья, и так все серо, холодно, покинуто. Точно смерть без страсти; точно страсть без жизни. А ведь есть где-то солнце, тепло, светлая жизнь под ясным небом; есть там и вечнозеленые деревья. И когда я подумаю о них, вечнозеленых и счастливых, мне так обидно становится за наш безвременно и невинно умирающий лес. Не насладился он вволю ни солнечным блеском, ни теплом, не надышался он всласть мягким воздухом весны и лета; не успел еще убраться в царственные одежды важной старости, как уже нагрянули на него снег, вьюга, жестокий шумящий ветер. Эх, климат!
Умер Золя. Нелепо и обидно умер. Какой-то камин, который дымит, какой-то угар, что-то вздорное, мелкое, слишком обыденное, вульгарное, — а в результате смерть. Вот он, великий Золя, валяется лицом вниз на ковре, такой простой, такой до ужаса обыкновенный, как все, кто умер. Нет Золя. Есть четыре пуда костей, мяса, мозга, есть форма человека, но человека уже нет — а скоро не будет и формы. И все это сделал какой-то нелепый угар. Прекратил свою неустанную работу гигантский мозг; сердце перестало биться; лежит неоконченная работа — неоконченная работа… Кто теперь окончит ее? И сколько детей-книг осталось нерожденными в этой голове? И нет силы, что могла бы вызвать их к жизни. Напишут другие другое; быть может, красивее, сильнее и умнее будет написанное ими, но не скажут они того, что сказал бы он; не надумают того, что надумал бы он. Оно умерло.
…Какой-то нелепый угар.
И такой же странный и неправдоподобный, как сама эта смерть, был у меня один разговор о ней. Вернее всего, вы не поверите в реальность этого разговора и скажете, что я нарочно его выдумал — «сочинил», как говорили в доброе старое время. Не стану уверять вас. Быть может, ничего этого не было; быть может, никто не сидел рядом со мной на диване, не ходил рядом со мной по комнате и не вел со мной этого странного, нелепого разговора. И то, что я могу подробно описать его, моего странного собеседника, ничего еще не доказывает: литераторы, равно как и сумасшедшие, не лишены дара галлюцинировать, и публике, равно как и докторам, известно это по множеству скверных рассказов.
Пусть это галлюцинация; нужно уважать и галлюцинацию, если она ведет себя порядочно, и быть с нею вежливым. Вот Лютер бросил в черта чернильницей, а что хорошего из этого вышло? Ничего. Только то, что черт возненавидел с тех пор чернильницу и чернила и нарочно выдумал красный карандаш.
Итак, несколько слов о моем собеседнике. Он не молод, но и не стар; роста он среднего, ну, приблизительно, как ваша тень, когда вы проходите мимо лампы. Физиономия у него довольно приятная, но истощенная и желчная: дело в том, что живет он преимущественно в таких местах, как Ляпинка, подвалы, маленькие комнаты верхних этажей, где воздух микробообилен, и плох; ест он плохо, спит совсем скверно, хотя его усердно пичкают наркотиками, и постоянно со всеми вздорит. Характер неуживчивый. Бывает, что люди позовут его к себе, прельстясь его разговором, а потом не знают, как отделаться. Так вот он явился ко мне и заявил:
— Вы обратили внимание на то, как умер Золя?
— Нелепая смерть, бессмысленная, — повторил я то, что уже раньше замечено было мной в этой статье, но гость мой решительно отмахнулся рукой.
— В том-то и дело, что не бессмысленная. Вы заметили, в чьем он доме умер?
— В своем собственном. Что же из этого?
— А чей был камин, удушивший его?
— Ну, конечно, его же. Что же отсюда следует?
— А то, что Немезида. Писатель не должен иметь собственного дома, не должен иметь собственного камина.
Я рассмеялся.
— А не все ли равно, угорит он от собственного камина или от чужого? От чужого-то, пожалуй, еще обиднее…
— У писателя совсем не должно быть камина, ни своего, ни чужого.
— Да ведь не один камин — и печки дымят.
— И печки не должно быть!
— Так ведь он замерзнет, писатель-то?
— Не замерзнет. Не замерзают же тысячи людей, которые живут без печки, черт знает где, или так плохо топят их, что как будто и совсем не топят. А если замерзнет — тем лучше.
Я выразил серьезное сомнение, чтобы так было лучше.
— Да, лучше, — настаивал мой дикий гость. — Он докажет, что он истинный рыцарь духа, каким должен быть всякий писатель. Добровольно приняв низкую, собачью смерть от мороза, которую другие принимают невольно
с проклятиями, он этим облагородит и ее и их — умирающих.
И совершенно искренно я ему сказал:
— Это даже не бескрайний идеализм, а дикая сверхъестественная чепуха. Прощайте!
Но от него не так легко было отделаться, раз он пришел. И вот что должен был выслушать я.
— Приятно думать, что в каждом писателе таинственно сочетаются два существа, с определенным для каждого кругом обязанностей и прав: один тот, кто пишет и печатает свои писания; другой тот, кто живет. Для первого обязательна любовь к людям, понимание их души, их радости и горя, сочувствие к их положению и разделение его. Ходатаем и заступником и толкователем всех, для кого жизнь трудна и невыносима, является первый. Мир еще не знает писателя, который не любил бы людей — хотя бы только на бумаге. Второй, тот, кто живет, — особых обязанностей не несет. Живет, как хочет, живет, как все.