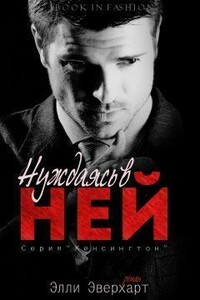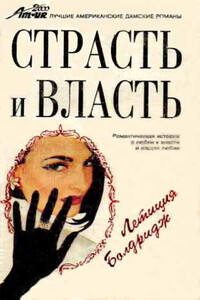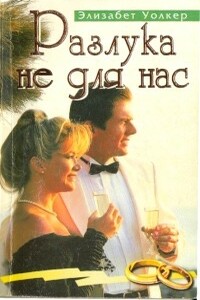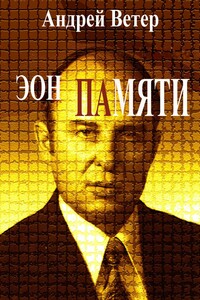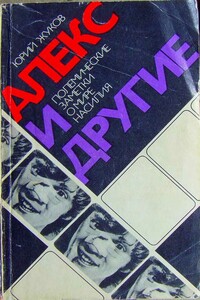Лимузин проезжает ту часть Нью-Хейвена, в которой я никогда раньше не был.
Полицейские сирены стихают вдали, и я вижу только старые кирпичные здания с окнами, которые либо разбиты, либо заколочены картоном. Граффити покрывают почти каждую поверхность: скамейки, рекламные щиты, дорожные знаки. Мы медленно проезжаем мимо женщины, толкающей тележку, заполненную картонными коробками и прикрытую одеялами. Ее волосы сальные и спутанные, и, похоже, что она не принимала душ вот уже несколько недель.
— Что мы здесь делаем? — спрашиваю я отца.
На его лице слабое подобие улыбки.
— Сейчас увидишь.
Мне не нравится, когда он улыбается. Когда другие люди улыбаются, это хорошо. Это означает, что они счастливы. Но когда улыбается мой отец, это либо потому, что он на публике и должен соблюдать правила приличия, принятые в обществе, либо произойдет что-то плохое. Поскольку я единственный человек в салоне лимузина, ему нет необходимости улыбаться. И это означает, что он что-то задумал.
У меня скручивает желудок, мышцы деревенеют. Не знаю, что он собирается делать, но отец привез меня сюда по какой-то причине. И я знаю, что это не хорошо.
Смотрю на него, сидя напротив.
— Скажи мне, что мы здесь делаем.
Он указывает в боковое окно.
— Ты видишь этих людей? Двое мужчин и женщина?
Он кивает на несколько бездомных людей в рваной одежде, их кожа потная от августовской жары и влажности. Женщина рыщет в мусорной корзине, а двое мужчин стоят так близко, шепчутся, вероятно, проворачивают какую-то сделку с наркотиками.
— И что с ними? — спрашиваю я.
Его взгляд задерживается в окне, когда мы проезжаем мимо еще парочки бездомных.
— Это отбросы общества. Остатки, которые всех нас тянут на дно. Занимают пространство и тратят ресурсы. Напрягают нашу экономику за счет своей зависимости от правительства.
Его взгляд возвращается ко мне.
— И все же они нужны. Они позволяют таким людям, как мы, хорошо выглядеть в глазах масс. Мы жертвуем деньги в приюты. Создаем рабочие места. Устраиваем благотворительные мероприятия. И взамен мы поставлены на пьедестал за наши добрые дела.
Я занервничал, когда он заговорил. Что-то должно произойти. Что-то плохое.
— Скажи мне, что мы делаем. Пожалуйста, отец. Просто скажи мне.
Мы остановились на знаке «стоп», и он лениво наблюдает, как бездомный мужчина, несущий сумку, пересекает улицу.
— Они служат другой цели. Той, которую я собираюсь тебе продемонстрировать.
— Я хочу уйти отсюда, — говорю я. — Поехали домой.
— Мы так и сделаем. Позже.
Его глаза все еще направлены на человека, идущего через улицу.
— Но сначала мы должны выполнить свою миссию.
— О чем ты?
Мое сердце забилось быстрее, а рука сжала сиденье.
Отец смотрит на меня.
— Расслабься, сынок. С каждым разом становится легче.
— Что становится? Пожалуйста, просто скажи мне, что мы здесь делаем.
Отец поднимается и слегка постукивает по стеклу, отделяющее нас от водителя. Лимузин притормаживает, когда мы проезжаем приют для бездомных. Уже вечер, люди выстроились в очередь, вероятно, в ожидании еды. Наш водитель сворачивает на право, в переулок. Затем машина останавливается, а сам он выходит наружу.
— Пришло время, Пирс.
Теперь мой отец довольно улыбается, но его глаза темные, почти черные. Я вижу, как он запускает руку в карман у окна и вытаскивает пистолет с прикрепленным глушителем.
Мое сердцебиение снова ускоряется, в затылке покалывает от страха.
— Отец, что ты делаешь?
Он не отвечает. Нажимает кнопку, стекло ползет вниз. Я вижу человека спиной к нам, мочившегося на угол здания. Его седые волосы торчат в разные стороны, он в рваных джинсах, забрызганных грязью, испачканной белой футболке, покрытой пятнами.
Перевожу взгляд на отца, он пистолетом указывает на того человека. И потом, словно в замедленной съемке, его палец нажимает на курок, а затем отпускает.
— Нет! — Слышу собственный крик.
Но уже слишком поздно. Пистолет выстрелил. Звук, который он издал, просто тупое «хлоп», а не громкое, отражающееся эхо, как это было бы без глушителя. Я гляжу на человека, стоявшего у здания, но его тело теперь распростёрто на земле, а футболка пропитывается кровью, вытекающей из дыры от пули, прошедшей через его спину прямо в сердце.
Картинка смазывается, когда тонированное стекло поднимается. Я чувствую, как лимузин отъезжает. Медленно поворачиваюсь, чтобы посмотреть на отца. Пистолет исчез, а он наливает себе стакан скотча.
Смотрит на меня, а улыбка все еще, как приклеенная, на его лице.
— И это, мой сын, то, что значит быть Кенсингтоном.