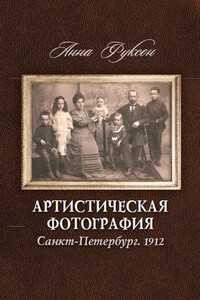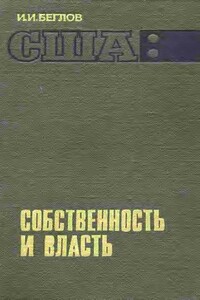![]()
Стратановский Сергей Георгиевич родился в 1944 году в Ленинграде. Один из самых ярких представителей ленинградского литературного андеграунда 70-х годов. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге, работает библиографом в Публичной библиотеке.
* *
*
Помню, в “Аллюзионе”,
кинозальце окраинном, маленьком,
Фильм крутили какой-то
о декабристах в мундирах,
Мятежей командирах,
на балах говорящих намеками
О правах и свободах,
о партократии правящей
И восставших народах.
Жадно, помню, глядели.
Жадно намеки ловили,
А потом выходили
из кино молчаливой толпой
В переулок безвестный,
к заборам и вою метели.
Штирлиц
Он — свой среди чужих,
в эсэсовском мундире
Агент секретнейший,
работающий на…
Свой — в черно-белом, жестком мире,
В доверии у них,
но не его вина,
Что, с фильма забалдев,
начнут играть подростки
В нацистов пламенных,
а девушки мечтать
Вот о таких мужьях,
об истинных арийцах,
Спецслужбу служащих.
Социальные предпосылки обсценной лексики
Рабий язык — говорю —
рабский, холопский язык.
Уплощение мира…
Не слово, а рык или мык,
Бычий мык…
Но обычай, и кожей привык
Человек, искореженный
молотом этого мира.
* *
*
Утверждаю научно
семиотичность окурка
Кем-то, где-то в — траву,
или в клумбу живую,
или в фонтан на юру,
На порог Храма Разума,
в тесто соседки на кухне,
А не в урну, стоящую тут же, в углу.
Утверждаю научно
семиотичность поступка
Этого или иного
наносящего вред биосфере
И ноосфере, пожалуй…
Эвенкийские похороны
В утреннем мире мертвых
сыновей уложите спать.
Пусть им солнце иное
застывшие лица омоет.
Солнце утра беззвучного
пусть омоет…
Так и уходит народ.
Погибает народ. Молодые
Раньше старых уходят
в края голубые, иные…
Ибо хвоя земная
уже побелела, больная.
В утреннем мире мертвых
сыновей уложите спать.
* *
*
Не пером и не кистью —
телами нагими на площади
Главной, парадной,
как буквами, текст нарисуйте,
Напишите ими, что Бог велик.
Пусть не будет свидетелей,
зрителей пусть не будет…
Только Бог и увидит…
* *
*
Что там на Севере?
Том, где Карсавин когда-то
Умирал долго, трудно…
Что там? Лишайники? Мох?
Тундра скудная…
Деревце разве кривое
Да болотце гнилое…
Но небо… но небо такое,
Как нигде не бывает.
Свет трепетный
В нем играет
и близится Бог.
* *
*
Чашка смерти простая,
а там, под кроватью, иная…
Той же смерти посудина…
Как же, однако, обыденно
И унизительно как
Умирание длинное…
* *
*
Не о том ты молишься — не проси,
Чтобы не было горя,
скорби телесной не было,
А проси, чтобы силу
невидимый Ангел дал,
Эту скорбь пересилить,
боль выстоять.
![]()
Роман
Я знал, что после смертельного удара в спину прожить можно еще долго.
Поэтому среди раскаленных каменных комодов Старо-Невского я еще держался — держался за свои воображаемые двадцать девять внутри и еще более воображаемые сорок пять снаружи. Но когда наконец пришлось свернуть под арку к свалке человеческих отходов, глаза уже не удалось удержать закрытыми. И ноздри тоже. В них ударило серебристой полынью и желтой пыльюзунтов— барханами отходов обогатительной фабрики. Да еще гарью остывающего шлака с банных задворок…
И я лечу сквозь них, мимо них, на миг зависая в балетном шпагате над канавами и рытвинами, —большой, бесстрашный, через год в школу, вооруженный ответственным поручением: беги займи очередь, в ларьке крупувыбросили…
Не помню ни ларька, ни крупы, ни очереди, помню только, как гордо я прохаживаюсь вокруг этих едва брезжащих пустот. А потом растерянно хлопаю глазами, когда громкая тетя Зоя изумленно допытывается у меня про какую-то ерунду: “Ты за кем? Ты за кем?” И продолжает разводить руками до самого дома: “Одну бабу спрашиваю — говорит: я его не видела. Другая баба тоже: я его не видела…”
Естественное дело, если и я их не видел. Я изнемогал от конфуза, но так никогда и не сумел избавиться от глубинной уверенности, что главное — красиво добежать, а что там делать, уже не важно.
Вот я наконец и добежал до того места, где делать больше нечего.
Двухэтажный вытянутый дом без признаков, что и есть главный признак райцентра, укрывшегося под мышкой культурной столицы. Скромный ад советской канцелярии, — как и положено, слишком тесный коридор, как и положено, лампочки слишком скудны, да и из тех половина перегоревши, как и положено, у каждой двери переминаются тайно ненавидящие друг друга просители — чем их больше, тем менее тайно, а больше их там, где просят больше. Коридор уходил в бесконечность, где свет был все скуднее, а двери все ниже, где просили все больше, а получали все меньше: в первую дверь можно было войти, лишь слегка наклонив голову, в следующей нужно было сделать полупоклон, дальше требовалось кланяться в пояс, а в бесконечной перспективе, где сгущалась едва проницаемая взором мгла, уже приходилось опускаться на четвереньки, протискиваться на брюхе…