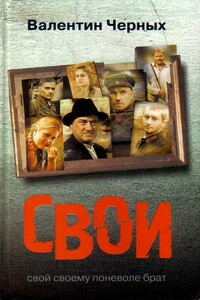Белоснежная, туго накрахмаленная материя расправлялась под утюгом. Марина закончила гладить короткие, с отворотами рукава, полюбовалась на свою работу и аккуратно положила хрустящий, как подарочная бумага, рабочий халатик поверх стопки отцовских рубах. Сдунула прилипшую ко лбу челку. Жарко было и от утюга, и от скатывающегося в жаркий вечер июльского дня. В раскрытые окна веранды тянуло дымком. Суббота, народ бани затопил. Тишина в поселке. Только в небе, в самой его уже меркнущей сердцевине, верещал, как заведенный, жаворонок.
Марина высунулась в окно. За последние двадцать три года картина не изменилась. По крайней мере, ничего новенького увидеть ей не удалось. Разве что кусты и деревья на противоположной стороне улицы разрослись так, что бесстыжий сосед — одноклассник Толик, не смог бы уже подсматривать в дедовский трофейный бинокль, как она переодевается перед школой. Впрочем, Толик после армии на свою малую родину не вернулся, подсматривать за ней теперь стало решительно некому, а любопытный сосед так и не узнал, какой красоткой стала «долговязая Маруська».
Марина без всякого удовольствия обозревала родной до боли пейзаж. Новой в нем была разве что одна вполне городская деталь: расставленные наискосок от их дома, возле чайной, усиленно маскирующейся под кафе, пластиковые столы. Фирменные, красные, с синими словом «Beer» на оборочке красных зонтиков. За столами сидели мужики, пили пиво и лениво провожали глазами случайные в субботний день, пылящие грузовики.
На заднем крыльце стукнула дверь. Марина, плеснув блестящим темными волосами, резко отвернулась от окна, сдернула со спинки стула легкую кофточку и пошла в комнату.
Егор топтался в сенях, слушал, как напевает дочь Маринка, собираясь на работу. Потом опять вышел на крыльцо. Безрадостно и с досадой даже оглядел свое ладное хозяйство: свежесрубленную баньку, огород с раскрытыми парниками, фруктовый сад, хлев и поветь с дровами, которых не на одну зиму заготовлено.
Вон помидоры какие нынче уродились, величиной с кулак. Егор посмотрел на свой красный после бани кулачище. Потом перевел глаза на яблони. Белый налив висел уже прозрачный. Кусни, так и хрустнет, так и брызнет соком. Но снимать еще рано. Надо ждать Спаса. А нынче только середина июля. Егор вздохнул и вернулся в дом.
Маринка продолжала напевать за дверью, точно и дела ей, козе, не было до отцовых забот. Егор немного послушал, потом стукнул в дверь и зашел.
Дочь стояла спиной к двери и, подпрыгивая, застегивала джинсы в облипку. Кофточка на ней тоже была в облипку. И даже не закрывала живот. Этого Егор не видел, но догадывался. Иначе теперь в деревне ни одна девка не ходила. Егор опять вздохнул и уселся на стул. Говорить не хотелось, а говорить надо было.
— Звонил?
Марина передернула плечами, и от этого жеста волосы взметнулись над ее спиной.
— Не звонил.
Как сверкнули: при этом темно-карие, цыганские, с кошачьим разрезом глаза дочери, Егор тоже не видел. В какой-то момент ему захотелось встать, стукнуть пудовым кулаком по столу, так, чтоб все эти шпильки-заколки-помады слетели на пол, плюнуть и уйти. Но дело было важнее. И Егор уперся тяжелым упрямым взглядом в Маринкину спину.
Фигура у Маринки была такая же, как у ее матери двадцать с лишком лет назад. Вот только штанов в облипку деревенские девки тогда еще носить не додумались. А какая фигура была бы у его Александры теперь, Егор не знал, потому что померла Александра вторыми родами пятнадцать лет назад. И мальчонку не спасли в районной больнице. А дочь Маринку он в одиночку растил. Да вроде не дорастил еще. Девка дорощенной считается, когда ее замуж выдадут. Егор опять вздохнул.
Марина зыркнула через плечо. Потом развернулась к отцу и еще раз сказала, как отрезала:
— Не звонил.
Так и есть. Пупок голый. Точно замуж пора. В деревне, если девке за двадцать, считай, уже старая дева. А Маринке этой зимой двадцать три стукнуло. Перестарок по здешним понятиям.
Стало быть, не звонил. Егор положил тяжелые ладони на колени.
— Может, он сбавит цену на приданое?
Егор сидел, опустив седеющую кудрявую голову, и внимательно разглядывал свои руки. Не хотел видеть выражение дочерних глаз.
Но Маринка на отца уже не смотрела. Накладывала перед настенным зеркалом макияж.
— Может, и сбавит.
В голосе ее теперь звучало деланное безразличие.
Егор упрямо мотнул головой:
— Тогда звони сама. Вот повезем овощи на рынок, заедем к нему.
Марина с досадой бросила тушь на стол, достала из сумки мобильник и нажала нужную кнопку. Егор поднялся, взял из рук дочери телефон, отменил вызов:
— С работы позвонишь. Нечего тратить свои деньги.
И, тяжело ступая, вышел из комнаты.
* * *
Старухе с утра явно нездоровилось. Люба собиралась на работу и одним глазом косилась на бабку Серафиму. Будет нездоровиться, когда тебе под девяносто. Серафима сидела, нахохлившись, в кресле-каталке и, несмотря на жару, куталась в свой неразлучный пуховый платок. В хорошие дни Серафима, шутя, называла этот платок «мой любовничек». И еще добавляла многозначительно: «Это что ж, другим можно, а мне нельзя, что ли?»