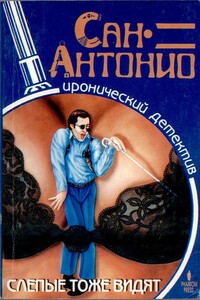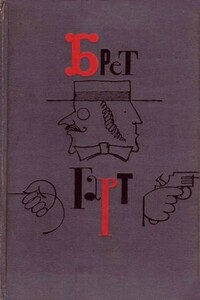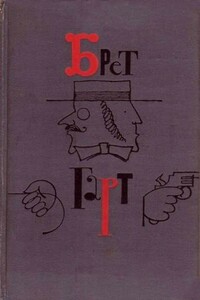Устало вздохнув, Мегрэ отодвинулся от стола, за которым сидел, облокотясь. Завершился семнадцатый час непрерывного допроса Карла Андерсена.
Из окон без занавесок в полдень можно было увидеть толпу продавщиц, модисток и служащих, штурмовавших закусочные на площади Сен-Мишель. После недолгого затишья, к шести часам, людские потоки устремились к станциям метро и вокзалам. Вскоре на улицы высыпали праздные гуляки, любители вечернего аперитива.
Сену затянуло легкой дымкой. С тремя баржами на прицепе прошел последний буксир с зелеными и красными сигнальными огнями. Последний автобус. Последний поезд метро. В кинотеатре сняли рекламные щиты, загородили вход решетчатыми створками.
Мегрэ показалось, будто пламя в печке, обогревающей его кабинет, загудело сильнее. Он рассеянно глянул на стол, уставленный пустыми пивными кружками, тарелками с остатками сандвичей.
По мостовой прогрохотала вереница пожарных машин — видимо, поблизости что-то загорелось. Затем была проведена облава: из ворот префектуры выехал полицейский фургон, который прикатил потом во двор тюрьмы предварительного заключения и здесь выгрузил свою добычу.
А допрос все продолжался, не прерываясь. Через каждые час или два, в зависимости от усталости, Мегрэ нажатием кнопки вызывал бригадира Люкаса, дремавшего в соседней комнате. Бригадир тут же появлялся, быстро прочитывал листок с последними записями комиссара и принимал от него эстафету допроса. А Мегрэ, в свою очередь, устраивался на походной кровати, чтобы, набравшись свежих сил, продолжать работу.
В префектуре царило спокойствие. Изредка кого-то приводили в отдел охраны нравственности. В частности, около четырех часов утра один из инспекторов доставил туда торговца наркотиками, приготовлявшего свои снадобья прямо на месте их продажи.
Мглистый белесый туман, повисший над Сеной, с рассветом стал редеть, постепенно рассеялся, и наступивший день озарил пустынные набережные. Коридоры наполнились гулом шагов. В кабинетах, как обычно, начался трезвон телефонов. Захлопали двери. Зашуршали метлами уборщицы.
Мегрэ положил свою перегревшуюся трубку на стол, поднялся и с раздражением, хотя и не без некоторого восхищения, снова оглядел арестованного с головы до ног.
Семнадцать часов напряженного допроса! А ведь перед началом допроса у этого человека изъяли шнурки от обуви, пристежной воротничок, галстук, полностью опустошили карманы. Первые четыре часа его заставили стоять посередине кабинета. Вопросы сыпались градом, словно пулеметные очереди.
— Пить хочешь?
Мегрэ допивал четвертую кружку, и на лице арестованного обозначилось бледное подобие улыбки. Он пил жадно, захлебываясь.
— Ты голоден?
Вначале его усадили, потом предложили встать. Семь часов он оставался без еды, а потом, когда он, давясь, уплетал сандвич, за него взялись снова.
Сменяя друг друга, Мегрэ и Люкас допрашивали его вдвоем. У каждого из них наступал перерыв, можно было прикорнуть, расслабиться, хоть на время забыть про этот нескончаемый монотонный допрос. И все-таки они пасовали перед ним, в чем-то ему уступали. Мегрэ пожал плечами, достал из ящика холодную трубку, вытер испарину со лба.
Больше всего его изумляла, пожалуй, не столько физическая и моральная стойкость допрашиваемого, сколько его на редкость изящная манера держаться, своеобразная изысканность, не изменявшая ему ни на минуту.
Вполне светский человек выходит без галстука из комнаты личного обыска, затем, раздетый догола, в окружении доброй сотни профессиональных преступников проводит битый час в отделе идентификации, его фотографируют анфас и в профиль, сажают на табурет для антропометрических измерений, его толкают, уголовники оскорбительно подшучивают над ним, и, несмотря на все, он полностью сохраняет самообладание. И если после многочасового допроса он все еще отличается от первого попавшегося, заурядного бродяги, то это просто чудо.
Карл Андерсен нисколько не изменился. Несмотря на сильно помятый костюм, он все еще не утратил ту элегантность, какую не часто могут наблюдать сотрудники уголовной полиции, элегантность аристократа с едва уловимыми признаками выдержки и непреклонности, с легким оттенком надменности, присущей главным образом дипломатической среде.
Ростом он был повыше Мегрэ и широк в плечах, но худощав, гибок и узкобедр. На продолговатом лице выделялись четко очерченные, чуть обескровленные губы.
В левом глазу поблескивал черный монокль.
— Уберите монокль, — скомандовали ему.
Он подчинился с едва заметной усмешкой. За моноклем скрывался стеклянный глаз, неприятно поражавший своей неподвижностью.
— Несчастный случай?
— Да. В самолете.
— Значит, вы участник войны?
— Я датчанин, и мне не пришлось участвовать в войне. Но у меня был собственный туристский самолет, там…
Зрелище искусственного глаза на этом молодом лице с правильными чертами было настолько тягостно, что Мегрэ недовольно пробормотал:
— Можете снова вставить монокль.
Андерсен ни разу не пожаловался, хотя его очень долго продержали на ногах, не дали ни поесть, ни попить. Вчера, в сумерках, с места, где он находился, было хорошо видно уличное движение, трамваи и автобусы, переезжавшие мост, багровый закат. Теперь же он наблюдал оживленную картину яркого апрельского утра.