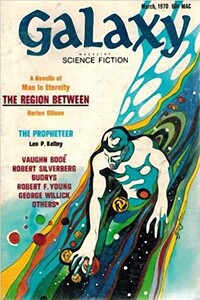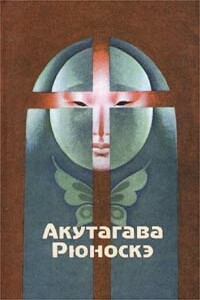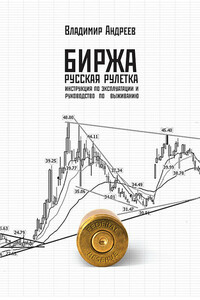Теперь, когда ему было не по карману покупать реальность в достаточных количествах, Густаву осталось писать на холстах только то, что он видел во сне. Ни этюдника, который можно было бы забрать с собой, ни палитры, ни курсора… Его голова приподнималась с подушки и вновь падала, во рту пересохло после вчерашней выпивки (наиболее дешевое из всех известных ему средств против бессонницы), и лишь один этот шанс, да несколько туманных миражей прекрасного прошлого оставались ему перед неизбежной встречей с пустотой дня. Начиналось все иначе, но теперь он видел, что, вероятно, именно так все и кончилось. У изобразительного искусства была своя пора взлета, и некоторое время с Густавом носились как с блестящим молодым талантом, которым он, по его убеждению, бесспорно, когда-то был. И огромная бугристая действительность, которую можно обнять, вкушать и царапать ногтями, вполне вероятно, снова войдет в моду — когда это уже перестанет иметь для него хоть какое-то значение.
Вот так! В это утро ведра и ведра жалости к себе опрокидывались на него с отсыревшего потолка. Так что же ему снилось? Что-то ведь снилось — конечно, снилось. Иначе оказаться здесь и называться Густавом не было бы таким потрясением. Уж лучше свыкнуться с этим, чем вот так… Густав поправил одеяло и обнаружил у себя эрекцию, то есть один из признаков (он же где-то когда-то про это читал?), что вам снились сны старомодного толка, без стимулирования, без какой-нибудь искусственной помощи. В любом случае симптом биологического оптимизма. Надежда на то, что все-таки есть надежда…
Кроманьонец с артритом — он выбрался из кровати. Узловатые ноги, узловатые вены, узловатые пальцы на ногах. Ему все еще не хватало привычной игры с дистанционной настройкой окна в дальней, изрытой оспинами стене, перемен перспективы и освещения в смутной надежде вдруг наткнуться на что-то получше. Солнце и луна пылали над Парижем в соответствующих точках небосвода и лили свет, точно потоки ртути сквозь наносмог. Он прижал ладонь к стеклу, ощущая водянистое поскрипывание трещины, змеившейся по нему. Пятый этаж над землей трущобного многоквартирного дома; длинный-предлинный спуск вниз. Он прижал лоб к знобкой прохладе стекла, и его прошила кислая мысль попробовать написать этот вид. Он уже закончил минимум двадцать видов протореального Парижа: развалины, опутанные паутиной кабелей в серых, белых и черных тонах. Вероятно, уже не раз созданные: старик Винсент любил кадмиевые желтые и хромы. И не продал ни единой дерьмовой картины за всю свою жизнь.
* * *
— То, о чем я рассказала тебе, было правдой, — Эланор чуть спотыкалась на незатейливых словечках, и на мгновение в этом мелькнуло что-то не свойственное ей, что-то почти тревожное. — То есть о Марселе в Венеции и Франсине по ту сторону неба. И да, мы действительно говорили, что надо бы устроить встречу. Но ты же знаешь, как бывает. Время бесценно, а к концу дня его уходит такая прорва, что подобные вещи требуют большого напряжения. Вот ничего и не получилось. Просто несколько обещаний, которые никто всерьез и не собирался выполнять. Но я подумала… но… ну, я подумала, что увидеться с тобой будет приятно. Хотя бы еще один раз.
— Выходит, все это только для меня? Господи, Эланор, я знал, что ты богата, тем не менее…
— Не надо, Густав Я не стараюсь ни произвести на тебя впечатление, ни ввергнуть в депрессию. Вообще ничего такого. Просто само собой вышло.
Он налил еще вина с безупречной точностью и даже спросил себя, каким способом достигается эффект, что они пьют вместе.
— Так ты все еще пишешь картины?
— Угу.
— Я редко вижу что-нибудь твое.
— Я пишу для частных заказчиков, — сказал Густав. — В основном.
Он свирепо посмотрел на Эланор: пусть попробует опровергнуть его слова. Конечно, если бы он на самом деле писал и продавал картины, то располагал бы кредитом. А если бы он располагал кредитом, то не жил бы в этой трущобе, где она его разыскала. Он бы оплатил все необходимые лечебные процедуры, чтобы остановить свое превращение в дряхлого старика, каким уже почти стал «Знаешь, я могла бы тебе помочь, — Густав услышал, как Эланор сказала эти слова, потому что уже столько раз слышал их от нее. — Мне не нужно это богатство. Так прими от меня небольшую помощь. Позволь мне это сделать…»
Но то, что она сказала на самом деле, было куда хуже.
— Ты записываешь себя, Гус? — спросила Эланор. — У тебя есть библиотекарь?
Вот, подумал он, вот минута, чтобы уйти. Опрокинуть все это и вернуться на улицу — протореальную улицу. И забыть.
— Ты знаешь, — сказал он, продолжая сидеть, — что слово «реальность» когда-то действительно означало протореальное — не проекции, не симуляции, но подлинную действительность. Только затем появилась виртуальная реальность, и, разумеется, когда возникло следующее поколение аппаратов, иллюзия настолько усовершенствовалась, что в нее можно было просто войти, не надевая очков и костюма. Так что маркетологам пришлось поломать голову над новыми словами, ее обозначающими. И кто-то, наверное, сказал: «А почему нам так ее и не назвать? Просто реальностью?»