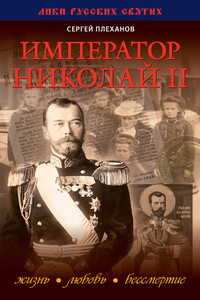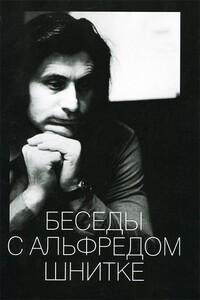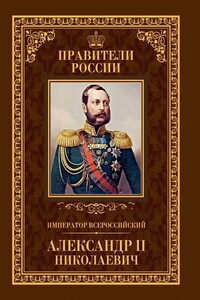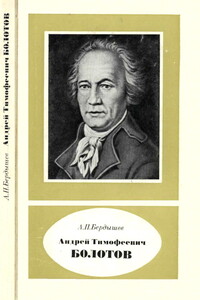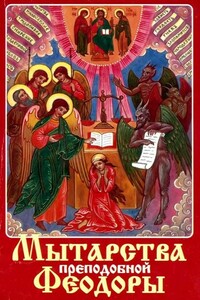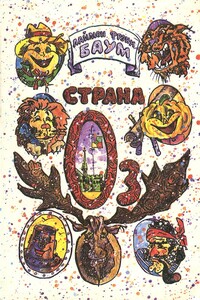Голоса из военного детства
Я помню руки матери моей,
Хоть нет ее, давно уж нет на свете…
Николай Рыленков
Всегда удивляюсь, даже завидую тем, кто помнит себя и окружающих с самого раннего детства. У моей памяти четкий отсчет: начало войны, когда мне было почти пять лет. А до этого – лишь редкие, короткие проблески, неосязаемые ощущения.
Вот мама ведет меня гулять через проходные дворы на набережную Обводного канала. Она крепко держит меня за руку, опасается, что я, не дай Бог, упаду. Мне это не нравится, я умудряюсь вывернуться и тут же плашмя падаю в густую летнюю пыль. Мама меня поднимает, отряхивает, ласково укоряет, и мы тихо идем вдоль залитого солнцем канала. Внезапно раздается пронзительный звук сирены воздушной тревоги. Мама быстро бежит к дому, прижимая меня к груди. А противная сирена все воет и воет…
Хорошо помню вечер, когда не оказалось дома отца. Еще бы, он всегда после работы подбрасывал меня высоко-высоко к сияющей хрусталем люстре. Мне весело и немного страшно, но у отца такие сильные руки. Он хохочет, во рту его блестит золотой зуб. Мама отнимает меня, и мы уже все громко смеемся…
А сейчас мне тоскливо. Я хнычу. Мама утешает меня, говорит, что папа ушел на войну, скоро вернется и опять мы будем вместе.
Вскоре я совсем ненадолго увидел отца и, как оказалось, в последний раз. Я точно знаю, где это произошло и как это случилось. Мы жили в четвертом дворе дома 18 по Измайловскому проспекту, невдалеке от Варшавского вокзала. Проспект пересекают Красноармейские улицы – бывшие Роты Измайловского полка. На них располагались казармы. Так случилось, что мой отец, рядовой красноармеец, оказался в одной из этих казарм.
Рядом с проспектом, на 9-й Красноармейской, у глухих ворот мы долго стоим с мамой. Наконец ворота открываются, появляется колонна солдат и поворачивает направо. Мой отец небольшого роста, он шагает в конце колонны. Мама поднимает меня на руки и кидается навстречу ему. Видимо, отцу разрешили выйти из строя, он берет меня на руки и целует, целует, что-то говорит мне и маме.
Колонна уже двигается по Измайловскому, огибая слева нечто диковинное: одетые в военную форму женщины медленно несут гигантского размера длинное толстенное чудовище. Конечно, я лишь много позже узнал, что это чудо-юдо называется аэростатом воздушного заграждения. Тогда же я никак не мог отвести от него взгляда, не слышал, что говорит мне отец. Колонна повернула направо – на 2-ю Красноармейскую и стала втягиваться в ворота казармы. Отец передал меня плачущей маме, расцеловал нас и скрылся за воротами…
Много-много лет спустя я жил в доме по соседству с этой самой казармой, ежедневно проходил мимо нее, заглядывая через открытую дверь проходной во двор. Однажды, когда военных куда-то перевели и здание ремонтировали, я беспрепятственно вошел внутрь, тщательно обследовал все помещения, пытаясь представить отца, стоящим вот у этого окна, или шагающим вот по этому длинному коридору, или спускающимся вот по этой старой лестнице. Жилось ему, как и всем ленинградцам, неимоверно трудно. Старшая сестра моей мамы Елизавета Александровна Шувалова вспоминала, как в страшную зиму 1941–1942 года навещала в казарме вконец исхудавшего моего отца. Сама измученная голодом, она приносила ему драгоценные гостинцы – что-то из своего скудного блокадного пайка. По натуре он был щедрым, веселым человеком, до войны постоянно помогал ее семье из пяти человек. Ее рано умерший муж Михаил и мой отец Григорий были большими друзьями. По праздникам все родные собирались в маленькой отдельной квартирке Шуваловых на проспекте Огородникова. За столом веселились, пели песни и разыгрывали друг друга…
И сейчас закрою глаза – и отчетливо вижу вокзал, толпы людей с чемоданами, узлами, плачущих детей, суматошную посадку в теплушки. Мама, ее мама – бабушка Аня, средняя мамина сестра Прасковья – тетя Паня – с грудным сыном Эдиком, мой сводный десятилетний брат Лёня и я эвакуируемся в Костромскую область. Там родина бабушки, мамы и ее сестер. Нас провожает тетя Лиза, она пока остается. (Это пока растянулось на два бесконечных блокадных года). В теплушку набилось много женщин и детей. Долго и шумно устраиваемся. Мы угнездились невдалеке от дверей. И вот поезд судорожно дернулся и поплыл мимо платформы, забитой провожающими. Мама со мною на руках стоит около дверей. Я вижу бегущую рядом с вагоном плачущую тетю Лизу в сбившейся черной соломенной шляпке. Она что-то кричит, все отстает и отстает от вагона и машет нам рукой…