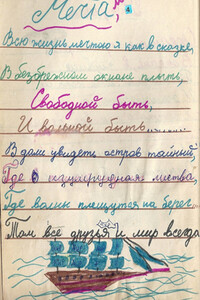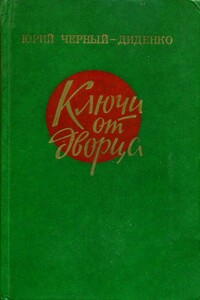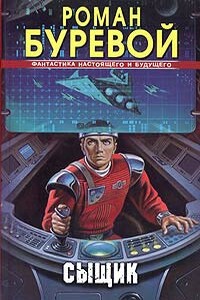В. КАРДИН
Необъявленная война
Из записок рядового участника
Забор похилился, остатки зеленой краски пошли пузырями. От ворот уцелели два опаленных столба.
Со зловещей быстротой фронт метит печатью запустения все, что попадается ему на пути. Еще вчера ворота венчала верхняя перекладина, калитка держалась на массивных петлях, да и забор не выглядел столь плачевно. Утром деревню мимоходом бомбили наши самолеты, прошлась по ней двумя-тремя залпами дивизионная артиллерия. После короткого боя пехота, не мешкая, двинулась дальше, и забор этот, ждавший хозяйской руки, ничем не отличался бы от сотен, тысяч таких же заборов, обуглившихся стен, что остались позади. Если б не аршинные белые буквы, выведенные на нем размашисто и торопливо. Буквы образовывали слова, заставившие лейтенанта остановиться:
«Доблестные красноармейцы! Вы свернули голову Гитлеру! Теперь сверните башку Сталину!»
Лейтенант носил белесую хлопчатобумажную гимнастерку с выразительной темной заплатой на правом рукаве. Сапоги, сшитые из вылинявшей плащ-палатки, маленькую пилотку с облупившейся зеленой звездочкой. Он стоял, недоуменно перечитывая лозунг, обращенный, видимо, и к нему.
По ухабистой сельской дороге тянулись пушки артполка, медсанбатский обоз, подводы полевой хлебопекарни. Повышенного внимания призыву солдаты не уделяли. Они слишком устали от маршей и бессонницы. Слишком привыкли к «наглядной агитации». Привыкли к надписям, торопливо сделанным на заборах, стенах домов, а то и на воткнутых в землю дощечках, призванных служить указателями. То были знаки и письмена войны, позволявшие установить, куда последовало «хозяйство Иванова», куда — «хозяйство Петрова», где намечено развернуть полковую санчасть, где — полевой госпиталь.
Поначалу лейтенанта удивляли эти надписи. Почему, строго запрещая дневные переходы, опечатывая рации, командование разрешает указатели, по которым нетрудно определить передислокацию частей? Почему фамилии командиров, которые нельзя упоминать в заметках дивизионной газеты, где он имел честь состоять литсотрудником, кому не лень пишет мелом в самых людных местах? Но вскоре сообразил, что законы формальной логики на войну не распространяются и лекторы в Институте истории, философии и литературы (он успел кончить два курса), возможно, правы, снисходительно посмеиваясь над ними. Ирония была в ходу и у преподавателей, и у студентов. Ирония людей, счастливо уверенных в собственном всеведении. Даже таких, кому к началу войны стукнуло девятнадцать, кто в западной литературе дошел до Шекспира, в русской — до «Слова о полку Игореве», а в науке наук остановился перед эпохальной четвертой главой «Краткого курса истории ВКП(б)».Ирония не оставляла их, и когда норовили делать прогнозы. Однокурсник будущего лейтенанта пародировал казенную поэзию, бодро уверявшую: «если завтра война», все решится «малой кровью, могучим ударом»:
...Но меня зовут мортиры, но меня труба зовет, и соседи из квартиры собирают пулемет.
В первую военную зиму осколок вспорет пародисту живот. Но он хоть вернется с войны. В отличие от большинства сверстников, что дадут наивысший процент потерь в войне, выигранной кровью. И только кровью...
В этом институте, занимавшем неприметное серо-бетонное здание на лесистой окраине Москвы, ценились хлесткие надписи на стенах лестниц, уборных и курилок. Пальма первенства принадлежала анонимному автору двустишия, украшавшего одну из лестничных площадок. Под карандашным контуром изящной женской фигуры красовались призывные строчки:
Взирая на певичку, включайся в перекличку!
Идей у самонадеянных юнцов было значительно больше, чем знаний. Попав на фронт, они щедро давали советы командирам. За что, разумеется, неотвратимо платились.
Осенью сорок первого года лейтенант — тогда он был рядовым бойцом в Особой бригаде, предназначенной для сверхособых заданий,— попав в отряд, которому приказали взорвать мост в тылу противника (наши, отступая, не успели это сделать), заметил, словно размышляя вслух: не худо бы разведать, охраняется ли мост, какими силами. Командир не придал значения мудрым советам. Но через час поочередно ткнул пальцем в трех солдат (третьим оказался будущий лейтенант) и велел разведать обстановку в районе моста. До подробностей командир не снизошел, топографическую карту не дал и свой лаконичный приказ завершил замысловатым сооружением из материала, который в столичном институте именовался «экспрессивной лексикой», а в народе — матом.
С той поры миновало почти три года. В карьере нынешнего лейтенанта (если быть точным — теперь уже старшего лейтенанта, звание присвоили недавно, и он не успел продырявить мятые погоны для третьей звездочки) произошли кое-какие изменения. Из Особой бригады его, подрывника и парашютиста, перевели в стрелковую дивизию; учитывая едва начатое филологическое образование, но не учитывая желание, направили в редакцию многотиражки. Когда он попробовал рыпаться, проситься в саперную роту, ему с отеческой солдафонской укоризной дали понять: за разговорчики на тему «хочу — не хочу» мылят холку. Относительно холки, впрочем, ему уже было известно. Хотя запас жизненных и военных знаний оставался невелик.