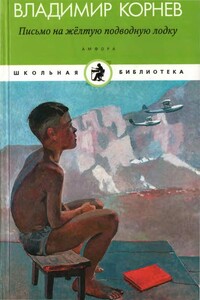Тиллим Папалексиев проснулся субботним утром. Мысленно Тиллим уже ненавидел это утро. То ли потому, что оно было однообразным, то ли потому, что не надо было идти на любимую работу, то ли потому, что мухи будили его, а может, оттого, что ему приходилось видеть желтый потолок в подтеках от очередного «наводнения» у соседей. Он ненавидел всех, не исключая собственной персоны; ненавидел всё и вся вокруг. Подойдя к засаленному столу, раз и навсегда покрытому намертво приклеившейся, липкой от грязи клеенкой, он нашел в металлической кружке остатки вчерашнего чая. Содержимое сосуда Тиллим не задумываясь опрокинул в себя. Как человек он ничего выдающегося собой не представлял, но при этом у него совершенно отсутствовала скромность и вместо нее присутствовало заветное желание быть замеченным всеми. Как обычно, он открыл окно, выходившее во двор-колодец.
Сердцем двора была помойка, благоуханиями которой дышал весь дом. Помойка сия была красива и оттого вдохновляла и завораживала Папалексиева, являясь его взору по утрам в скромной раме окна. Она роскошно раскинулась едва ли не по всему пространству тесного петербургского двора, вольно распласталась по выщербленному асфальту, переливаясь всеми немыслимыми цветовыми оттенками, блистая на всю округу, и была поистине живописна. Зрелище это внушало Папалексиеву сладчайшие впечатления, будоражило душу тайного романтика. Запах помойки казался особенным. Симфония ароматов разлагающихся отбросов нежно тревожила обонятельные центры, приятно щекоча нос, что на душевное состояние Папалексиева имело буквально оздоравливающее воздействие.
Помоечные испарения были резко пьянящи и чрезвычайно въедливы. Проникая в одежду и легкие проходящих через двор, как минимум три последующих дня запах этот властно напоминал о себе. Здесь, среди мусорных баков и гор отбросов, была сосредоточена вся активная жизнь дома. Можно с уверенностью сказать, что помойка была сердцем двора. Дни сменяли ночи, восходы — закаты, и каждое время суток отмеряло долю властвования определенному клану обитателей помойки. Прожорливые крысы хозяйничали здесь под надежным покровом сумрака и купались в холодных лучах луны, собирая свою дань. С первыми лучами солнца их место занимали бродячие и выгуливаемые собаки с задранными и опущенными хвостами, обхаживающие свои владения, дружно перекликаясь лаем разных тональностей. Затем появлялись ленивые коты, сопровождаемые похотливыми кошками, а за ними следовала беззаботная, веселая компания котят. Всех жителей помоечной округи объединял ее запах. Он преследовал их везде и всюду. Навечно впитавшись в их плоть и кровь, как опознавательное тавро лишь для очень узкого круга лиц, проживавших здесь, он позволял им, принюхавшись, в любом чужом микрорайоне, дворе, очереди в магазине безошибочно распознать соседа. Запах сплотил и объединил жильцов, наделив их способностями коммунального сосуществования в доме под номером двадцать восемь по Большой Монетной улице.
То был типичный петербургский-ленинградский дом, из тех, что в совокупности образуют центральную часть невской столицы. Изрядно траченный временем фасад, подобно поеденному молью фраку, сохранял в себе черты изысканной архитектуры. Серебряный век модерна еще теплился в лепнине потолков, майолике отслуживших свое печей, зеленоватой меди дверных ручек и замысловатости кованых лестничных перил. Правда, вряд ли оставались в доме жильцы, помнившие те времена, когда зеркала парадных вестибюлей отражали пылких юношей-декадентов со взором горящим, преследовавших по пятам блоковских незнакомок, дышавших духами и туманами. Давно уже здесь колобродила иная жизнь, проникнутая общепитовским чадом коммунальных кухонь, озвученная бессмысленными перебранками жильцов и всевозможными звуковоспроизводящими устройствами от стереоакустических систем до древних радиол и патефонов, работающими двадцать пять часов в сутки. Жизнь эта могла бы озадачить постороннего вызывающей бесшабашностью молодых квартиросъемщиков, живущих одним днем, или испугать зловеще-молчаливым угасанием стариков, целиком отдавшихся воспоминаниям о прошлом и Бог весть еще каким скорбным раздумьям. Войти в дом на Петроградской можно было только с фасада через подворотню, которая во время оно тоже закрывалась, но теперь припертые к стенам створки ворот были надежно скованы асфальтом. Всяк сюда входящий, разумеется, тут же попадал в обшарпанный проходной двор с вышеупомянутой достопримечательностью квартала — помойкой, куда выходили многочисленные закоптелые окна квартир и неприветливые двери черных лестниц. Многие из них, впрочем, несмотря на свою традиционную загаженность и устоявшийся годами особый кошачий дух, давно уже служили парадными, потому что последние по неведомой причине были закрыты перестраховщиками из жилконторы.