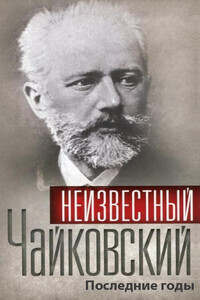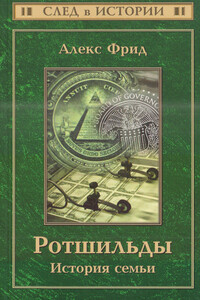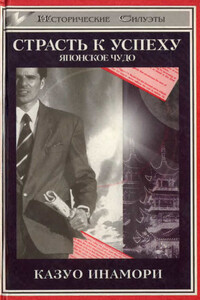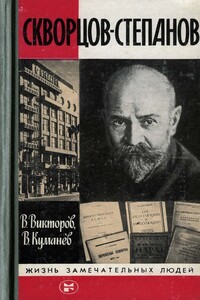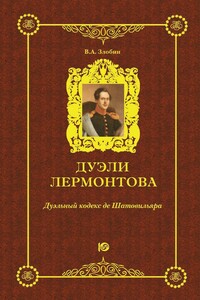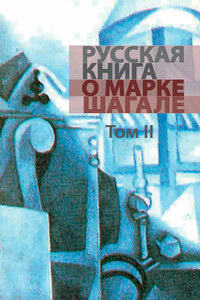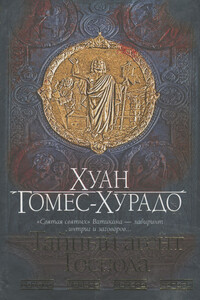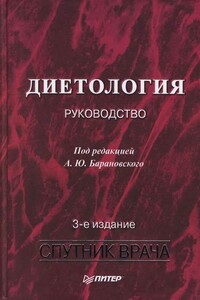«Я всегда полон тоски по идеалу…»
Вместо предисловия
Если искать сходства в поэзии и музыке, – а что есть музыка, как не поэзия в звуках, и разве поэзия не вечная спутница, союзница музыки, – то, кажется, нет более гармоничного сближения, чем Пушкин и Чайковский. Сходство тут не только в мелодизме стиха и поэтичности музыкального языка. В совершенстве, просветляющем в любую эпоху смысл нашего бытия, в ясновидящей любви и сострадании, вседоступности гениальной простоты и задушевности, национальном русском достоинстве и той самой всечеловечности, о которой говорил Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине в день открытия опекушинского памятника поэту в Москве. И еще в чем-то непостижимо загадочном, что вызывает в памяти пушкинские образы, стоит зазвучать музыке Чайковского.
Всю свою творческую жизнь, начиная с юношеского романса «Песнь Земфиры» по поэме «Цыганы», Чайковский снова и снова возвращался к Пушкину, восхищаясь необыкновенной музыкальностью его вдохновенного поэтического слова, тем, что он «силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных стен стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть и музыка».
Конечно, было бы очевидным преувеличением «отдавать» всего Пушкина только Чайковскому, равно как и всего Чайковского – Пушкину. Гений великого поэта – многогранный и многоликий – притягивал и вдохновлял М.И. Глинку и А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, а впоследствии С.В. Рахманинова и нашего выдающегося недавнего современника Г.В. Свиридова… В огромном наследии композитора – обилие произведений, и в том числе симфонических, в основу которых положена литературная классика.
Великая мировая литература подвигла П.И. Чайковского на создание грандиозных увертюр-фантазий и симфонических фантазий – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Буря» по Шекспиру, «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте, симфонии «Манфред» по Байрону, опер «Орлеанская дева» по трагедии Шиллера и «Черевички» (в первоначальной редакции «Кузнец Вакула») по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также более ста романсов на стихи Фета, Апухтина, А.К. Толстого, Плещеева, Полонского, Константина Романова, Майкова, Сурикова…
Пушкин и Чайковский. Они были бы современниками, если б насильственно не прервали жизнь Поэта. Но современниками разных поколений – отцов и детей. Они могли бы встретиться даже в Каменке, на Украине: и тот, и другой бывали здесь не раз… Но их пути пересеклись иначе. Без Пушкина, так же, как и без Глинки, Чайковский никогда не был бы таким, каким мы его знаем. Как человек и художник, он был воспитан ими, их творчеством.
С ранних лет мучимый тоской по совершенству, Чайковский был потрясен до глубины души поэтичностью онегинской Татьяны, ее «полной чистой, женственной красоты девической душой», ее «мечтательной натурой, ищущей смутно идеала…». С детства влюбленный в образ Татьяны и очарованный стихами Поэта, он однажды, проведя бессонную ночь, с восторгом перечитал «Евгения Онегина», тут же набросав сценарий.
«Ты не поверишь, – спешил поделиться композитор, вовсю увлеченный работой, с братом Модестом, – до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений (намек на бытующие в то время фабулы оперных спектаклей. – Т.М.), всякого рода ходульности! Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки».
Собственно недостатки эти, объясняющиеся, как казалось Петру Ильичу, «сценическими неудобствами» и отсутствием привычных театральных эффектов, были, по сути, достоинствами – новаторством первой лирической русской оперы, названной им из скромности перед Пушкиным «лирическими сценами». Тут нельзя не вспомнить следующее. Несколько ранее один из последовательных недоброжелателей композитора, Цезарь Кюи, вынося свой суровый приговор предшествующей «Онегину» опере «Опричник» (по пьесе И.И. Лажечникова), в числе наиболее порицательных оценок высказал, быть может, самое уничижающее автора, что эта вещь хуже итальянских опер. И хотя сам Чайковский был себе лучшим – строгим и беспощадным – критиком, такое мнение коллеги-соотечественника не могло не оскорбить его патриотических чувств прежде всего потому, что он, как никто другой, был обеспокоен тогдашним существованием и дальнейшей судьбой отечественного оперного искусства, вытесненного из собственного дома предприимчивыми иностранцами.
«В качестве русского… – сокрушался великий музыкант, – могу ли я, слушая трели г-жи Патти, хоть на одно мгновение забыть, в какое унижение поставлено в Москве наше родное искусство, не находящее для приюта себе ни места, ни времени? Могу ли я забыть о жалком прозябании нашей русской оперы в то время, когда мы имеем в нашем репертуаре несколько таких опер, которыми всякая уважающая себя столица гордилась бы, как драгоценнейшим сокровищем?»