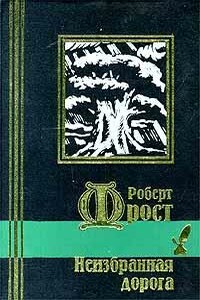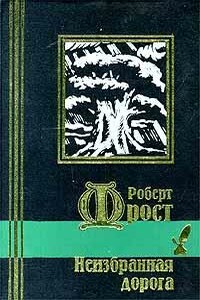Роберт Фрост (1874-1963) считается в США поэтом №1 для всего XX века (как для XIX столетия - Уолт Уитмен), и этот бесспорный факт иностранного читателя несколько озадачивает. Тем более что американская поэзия заканчивающегося столетия богата звездами первой и второй величины: Эзра Паунд, Томас Стирнс Элиот, Харт Крейн, Э. Э. Каммингс, Уистен Хью Оден, Эдгар Ли Мастере, прославленная плеяда так называемой "южной школы", и многие, многие другие. И при всем этом изобилии и великолепии единственным общенациональным поэтом слывет именно Фрост. Его же, кстати, считал своим любимым поэтом (правда, называя при случае и другие имена) Иосиф Бродский. Но, пожалуй, еще более впечатляет та дань, которую отдал Фросту на редкость ревнивый к чужой славе, особенно поэтической, В. В. Набоков. Поэма из написанного по-английски романа "Бледное пламя" явно восходит к Фросту и пронизана стремлением перещеголять знаменитого американца, обыграть его, так сказать, "в гостях"... Правда, этот замысел Набокова нельзя признать удавшимся (а по большому счету - и понятым современниками), да и не был сам В. В. Набоков ни в английских стихах, ни в русских по-настоящему крупным поэтом, но к посредственностям не ревнуют, а Набоков к Фросту, вне всякого сомнения, ревновал. Меж тем величие стихов Фроста открывается читателю далеко не сразу: поэт, на первый взгляд, простоват, а при более углубленном прочтении оказывается, наоборот, чересчур сложным, чтобы не сказать темным.
В СССР стихи Фроста издавали несколько раз, советская власть обеспечила ему режим наибольшего благоприятствования, он проходил по разряду "сочувствующих", но это же отталкивало от него нашего читателя, привыкшего в поэзии (в переводной поэзии в том числе и, может быть, в первую очередь) искать (по слову Осипа Мандельштама) "ворованный воздух" свободы. Фрост дышал этим воздухом - но не на наш, советско-антисоветский, лад. Слова, сказанные почти девяностолетним поэтом в ходе его визита в СССР в 1962 году, оказались воистину определяющими - властям они льстили, а потенциальный читательский интерес убивали на корню:
"Ваша эмблема - серп и молот, моя - коса и топор. Мои любимые занятия: косить, рубить дрова и писать пером. Я знаю вас лучше, чем госдепартамент: я изучал Россию по русской поэзии и приехал проверить все, что она мне сказала. Поэзия - это мечта, создающая великое будущее. Поэзия - это заря, озарение. Поэтам полезно ездить друг к другу с поэтической миссией, но хорошо, когда это помогает политике. Встречи поэтов полезнее, чем встречи дипломатов, ибо сближают родственные души".
Поэта, разразившегося подобными благоглупостями (пусть и в восьмидесятивосьмилетнем возрасте), читать определенно не хотелось! Своих таких хватало... Так, по крайней мере, казалось тем, кто зачитывался едва начавшими переводиться у нас Лоркой и Рильке, Элиотом и Элюаром, на худой конец, Нерудой и Хикметом. Понадобились десятилетия, чтобы преодолеть естественное отторжение и взглянуть на поэта без априорного предубеждения и прочитать его как великого лирика, философа и натурфилософа, каким он на самом деле и был. Но когда это наконец произошло (в середине восьмидесятых, на заре перестройки), массовый интерес к поэзии уже угасал и авторитетное двуязычное издание, вышедшее труднопредставимым по нынешним временам тиражом в 35 тысяч экземпляров, прошло практически незамеченным, как и многие другие прекрасные книги, несвоевременно появившиеся в тот же период. Но что означает несвоевременно (или "не ко времени")? Слишком поздно или слишком рано? Вот вопрос, на который должна ответить предлагаемая вашему вниманию книга.
x x x
Жизнь Фроста скупа на события, нетороплива, монотонна, однообразна. Нерадивый школьник и студент (закончивший только колледж - на университет не хватило денег), затем сельский учитель, сочетающий преподавание с трудом на ферме, затем поэт, затем знаменитый поэт, продолжающий фермерствовать в Новой Англии. Первый сборник Фрост, впрочем, издал только к сорока годам - и его название ("Прощание с юностью", а в иных переводах и "Воля мальчика") воспринималось заведомо иронически. Правда, ирония пронизывала все творчество Фроста - и задним числом она кажется даже избыточной: Фрост пишет, допустим, замечательное лирико-философское стихотворение "Неизбранная дорога" (см. в книге) - и тут же объявляет, будто это юмористические стихи, в которых он подтрунивает над своим нерешительным другом. Уже в 20-е годы Фрост воспринимался как живой классик и продолжал фермерствовать до самой смерти. Есть знаменитая фотография Бориса Пастернака с лопатой на садовом участке в писательском поселке Переделкино, в Америке знаменита другая - семидесятилетний Фрост с каким-то нехитрым садовым инструментом.
Личная жизнь Фроста также была скудна, хотя по своему драматична. Немногие важные и почти всегда трагические события (трудное ухаживание за будущей женой, попытка самоубийства после ее первого отказа, смерть первенца) обыгрываются в стихах многократно. И в то же самое время поражает полное отсутствие любовной лирики в традиционном понимании слова - хотя бы в юности. Вероятно, драматична была и поздняя любовь Фроста к своей многолетней помощнице и секретарше (разумеется, после кончины супруги после тридцати лет брака; Фрост был человеком строгих правил): отвергнув ухаживания поэта, а вернее, отказавшись ради брака, предложенного им, разойтись с мужем, она дружила с поэтом и работала на него до самой его смерти. Фрост не участвовал в мировых войнах, не был ни пьяницей, ни наркоманом, он жил в одиночестве, которое воспринимал как безлюдье и которым, по-видимому, ничуть не тяготился. Любопытный психологический штрих - Фрост никогда не писал стихов по свежим следам как непосредственный эмоциональный отклик на то или иное событие, но лишь после долгой - иногда многолетней - паузы, дав чувству (или чувствам) дистиллироваться и отстояться.