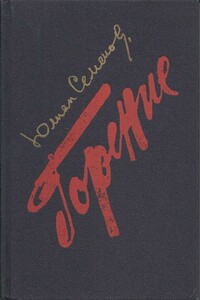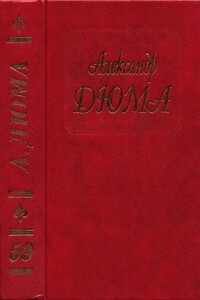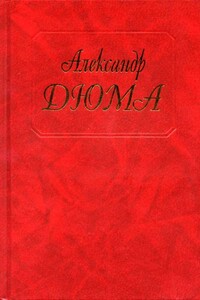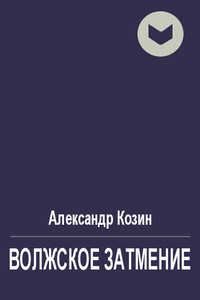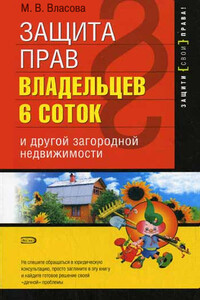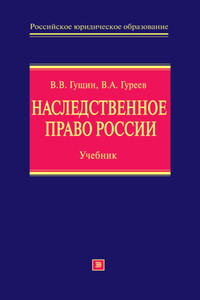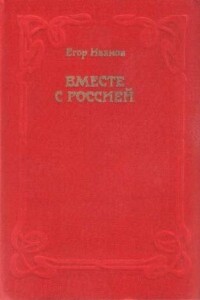Веселое, но еще не горячее весеннее солнце поднималось над Санкт-Петербургом, заглянув предварительно во все уголки обширных пределов Российской империи. Одинаково безразлично оно дарило лучами на своем долгом пути хибарки крестьян, бараки рабочих, усадьбы помещиков, дворцы знати, посылало свет и тепло деревенькам и заштатным городишкам, аулам и хуторам, фабричным центрам и двум столицам — полудеревянной, полуспящей Москве и каменному, хладнокровному Петербургу.
Ночь отходила, под беспощадным солнечным весенним светом снова и снова обнажались нищета и крикливое богатство, лохмотья крестьянина, бредущего в город на заработки, и сияние эполет гвардейского офицера, летящего на лихаче в модный ресторан, сонная одурь купеческих лабазов и прокопченная убогость казарм, где ютился рабочий люд.
Вместе с восходом солнца вся Россия поднималась ото сна, истово крестилась или возносила иную, иноверческую молитву и принималась варить металл и ткать льны и ситцы, строить и торговать, валить лес и печь хлеб, заниматься тысячью других дел, имя которым — труд. Лишь малая толика подданных необъятной империи не видела, как поднимается солнце. Это были те, кто жил чужим трудом, проводил свои дни в единственной заботе — как бы украсить и скоротать свое время, порезвиться с подобными себе бездельниками или сделать вид занятости на государственной службе. Они отдыхали до полудня для того, чтобы за полночь устать от развлечений.
Всю многомиллионную массу трудовых людей и миллион их захребетников охраняла от «врагов внешних» российская императорская армия, которую господа предназначили еще и для защиты самих себя от «врагов внутренних», то есть от лучших среди тех, кто трудился от зари до зари.
Приспешники царя, свора великих князей и прибалтийских баронов, занявшие в армии почти все важнейшие посты, пытались взрастить в российском воинстве повиновение без рассуждений, слепое исполнение команд «патронов не жалеть!».
Но и в армии солнце свободы проникало все дальше и дальше во все темные уголки, беспощадно высвечивало пороки и безобразия, обнажало трухлявые сваи и подпорки самодержавного строя.
В начале века далеко не все подданные Российской империи могли видеть путеводную звезду революции. Но таких людей день ото дня становилось все меньше и меньше.
…Веселое, но еще не горячее весеннее солнце поднималось над Санкт-Петербургом.
1. Петербург, март 1912 года
Алексей Алексеевич Соколов, кавалерист и любитель лошадей по натуре, военный разведчик по должности и подполковник Генерального штаба по чину, проснулся в это мартовское утро 1912 года затемно с радостным и тревожным чувством ожидания. Сильный ветер с моря разогнал облака, горизонт за окном сначала блеснул зеленой полосой, а затем из-за нее брызнули яркие солнечные лучи.
Соколов одним прыжком вскочил с постели, потянулся, разминая суставы. «Сегодня конкур-иппик [1], — учащенно билось его сердце, — и я впервые в Петербурге буду спорить с сильнейшими наездниками столицы!»
Пока Соколов одевался и завтракал, он все время вспоминал свою лошадку, золотистой масти кобылицу государственного Стрелецкого завода.
В это время его Искра в своем деннике тоже готовилась к скачке. Вестовой Соколова делал ей массаж: крепко растирал стройные ноги вверх по жилам против шерсти и мягко оглаживал вниз. Потом накрыл дорогой попоной, из-под которой спадал золотой каскад хвоста Грива, мягкая и волнистая от природы, была уже расчесана. Большие глаза на чистой, изящной и прямых линий голове смотрели ласково на солдата. Искра и сама знала, что красива, а теперь по обхождению начинала понимать, что сегодня ее ждет что-то необычное…
Соколов кликнул подле своего дома извозчика. Ему казалось, что все людские потоки, стремившиеся в этот час по улицам, тянутся только в одну сторону — туда же, куда спешит и он, — к Михайловскому манежу.
На солнце уже пахло весной, радостно искрились сосульки. Толпы гуляющих по Невскому обтекали черных бронзовых коней и античных возничих на Аничковом мосту. Шум города складывался на проспекте из гомона толпы, цоканья лошадиных копыт по торцам мостовых, шелеста шин-»дутиков» и полозьев саней, фырканья моторов редких авто, треньканья трамваев. Внезапно симфония города дополнилась звуками труб — это на катке возле Симеоновского моста трубачи заиграли матчиш.
Алексей Алексеевич и раньше живал подолгу в Петербурге, в том числе и во времена учебы в Академии Генерального штаба, куда он вышел из Митавского гусарского полка. Теперь же, когда он вновь сделался столичным жителем, виды прекрасного города будили в его душе отголоски сладкой тоски, несбыточных мечтаний о душевной гармонии.
Гусарская служба оставила на Соколове неизгладимый след. Хотя он и был по природе веселым и живым человеком, серьезным, когда того требовала служба и обстоятельства, лихим наездником и неутомимым спортсменом, красивый гусарский доломан накладывал на него отпечаток какого-то внешнего легкомыслия, которого на самом деле в нем и не было. Зная это, Соколов все-таки часто надевал именно полковую форму, особенно когда хотел по какой-либо причине произвести на собеседника впечатление рубахи-гусара.