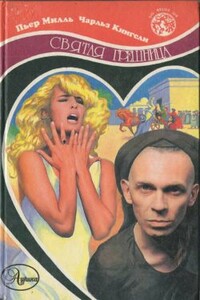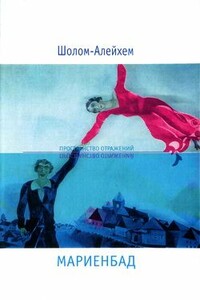В начале месяца элула я прибыл в Касриловку, чтобы почтить могилы предков.
Старое-старое касриловское кладбище выглядит гораздо красивее и оживленнее, нежели самый город. Вы найдете здесь надгробные домишки-памятники более красивые, чем самые красивые дома в городе. А то, что здесь земля сухим-суха, нет той глинистой топкой грязи, что в городе, тоже чего-нибудь да стоит! Здесь вы по крайней мере видите перед собой зелень, когда наступает живительное лето, травку, два-три густолистых деревца, слышите чириканье пичужек, прыгающих с ветки на ветку и болтающих о чем-то на своем наречье. Здесь, как большая голубая ермолка, над вами небо с чистым и горячим солнцем. О воздухе и говорить нечего, - он здесь в тысячу раз лучше, свежее и здоровее, чем в городе. А ведь как тут, так и там обитают одни покойники! Разница только в том, что здесь, на кладбище, покойники лежат на месте, а там, в городе, они еще расхаживают; здесь они уже покоятся и не знают никаких горестей, а там они еще бедствуют - и кто знает, сколько еще суждено им страдать и мучиться на этом свете.
Застал я тут нескольких женщин; припав к могилам, они плакали, кричали, причитали в голос. Одна будила мать - пусть встанет, пусть посмотрит на свою единственную дочь, пусть увидит, что с ней сталось!
– Поднялась бы ты, мать моя родная, дорогая, сердечная, взглянула бы на свою дочь, на единственную дочь, на твою хрупкую, бесценную Cope-Перл, на которую ты надышаться не могла, которую оберегала как зеницу ока, увидела бы, как она мается на этом свете. Горе, горе, какую она жизнь бездомную влачит, с малыми детьми, нагими птенцами, ни сорочки на тельце, потому что он, твой зять Исролик, хворает без передышки; с тех самых пор, как он тогда простудился на ярмарке, хворает он и врачуется, его бы надо молоком поить, а - нету! Деточки, бедняжки, тоже просят молочка, а нету! Портной Гендзл, у которого мы теперь живем, требует квартирную плату, а нету! За ученье Гершла - ему в нынешнем году приходит бармицве - надо уплатить еще за прошлый год, а нету! За что ни возьмись - нету, нету, нету!
Другая пришла к могиле отца жаловаться на мужа, которого ей дали. Думала, на редкость хорош, говорили: чудо-человек! Все девушки тогда завидовали ей. А на деле оказалось, что он шарлатан, мот, позволил себе в нынешний праздник уплатить за "мафтэр" пятьдесят пять "гилдойн"[1], а в прошлом году за возглашение библейского стиха "Тебе дано видеть" в праздник торы был не прочь уплатить трешницу! А сколько он изводит на книги, которые покупает всякий раз, - за эти книги он отдаст отца с матерью, а то, что жена хворает и худеет, его не трогает!..
Третья пришла поздравить своего покойного мужа: она выдает замуж старшую дочь, а справить свадьбу не на что, приданого нет, даже первой половины, которую она обещала внести и еще не внесла. Нательной рубахи - и той нет, обуви - ни пары, где уж тут говорить о расходах на свадьбу - на музыкантов, на сервировщиц, на то на се - где она все это раздобудет?.. Голова раскалывается - а что, если, упаси боже, из-за этого расстроится свадьба, что ей тогда делать?..
Так плачут, жалуются на свои горести и беды и другие, женщины, в слезах изливают все, что на сердце накипело, отводят душу в разговоре с любимыми, дорогими, авось хоть немного полегчает, - и впрямь ведь становится легче, когда хорошенько выплачешься...
Я брожу среди старых полуосыпавшихся могил, читаю старые стершиеся надписи на накренившихся памятниках. Издали заметил меня могильщик реб Арье, человек с длинной льняной бородой, красными глазами, и спросил:
– К кому тебе нужно?
Реб Арье так стар, что никто, даже сам он, не помнит, сколько ему лет. А все ж таки содержит он себя в чистоте и опрятности, сапожки его начищены, борода расчесана, ухожен у него каждый волосок; следит за собой старый, как мать за любимым единственным сыном, питается только мягкой едой, каждое утро пьет отвары лечебных трав с леденцами. "Ему хорошо, уж куда лучше!" - говорят о нем в Касриловке и от души ему завидуют,
– Шолом алейхем, реб Арье, как вы поживаете? - откликаюсь я и подхожу к старику. Уже вечер. Солнце близится к закату и золотит верхушки могил. Реб Арье, прикрываясь ладонью, оценивает меня взглядам своих красных глаз и поглаживает бороду.
– Кто ты такой? Ты к кому?
Реб Арье так стар, что может позволить себе обращаться ко всем на "ты".
Говорю ему, кто я такой и к кому пришел. Реб Арье узнает меня, почтительно здоровается и, шамкая, говорит с присвистом:
– А? Так это ты? Знал я твоего отца и деда твоего - реб Вевика, золотой был человек, и дядю Пиню, - тоже почтенный человек, и дядю Берку, он тоже лежит здесь у меня, и тетю Хану - всех я знал, все померли, все самые прекрасные люди поумирали. Ни одного порядочного не осталось. Мои все тоже умерли (он вздыхает и машет рукой). Сначала детей схоронил, всех детей схоронил, потом и сама праведница моя приказала долго жить, оставила меня одного на старости лет. Нехорошо.
– Нехорошо? - спрашиваю.
– Нехорошо, - повторяет он, - нехорошо, не стало покойников.
– Не стало покойников? - говорю я.