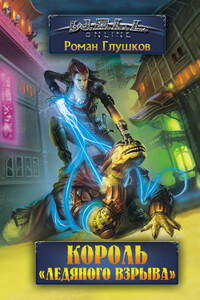ДРАМАТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА В ДВУХ ЧАСТЯХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Желябов, 30 лет.
Фроленко, 31 год.
Плеханов, 23 года.
Михайлов Александр, 25 лет.
Михайлов Тимофей, 21 год.
Кибальчич.
Морозов, 25 лет.
Гольденберг, 24 года.
Окладский, 21 год.
Рысаков, 19 лет.
Перовская, 26 лет.
Фигнер, 27 лет.
Якимова, 24 года.
Молодой народоволец.
Народовольцы.
Александр Второй, император, 62 года.
Лорис-Меликов, министр, 54 года.
Муравьев, товарищ прокурора, 30 лет.
Добржинский, следователь, 30 лет.
Княгиня Юрьевская, 30 лет.
Победоносцев, обер-прокурор синода, 54 года.
Дурново, следователь.
Сановник.
Судебный пристав.
Офицеры.
Свидетельница.
Полицмейстер.
Левый.
Правый.
Западник.
Славянофил.
(петербургские интеллигенты)
Провинциал.
Крестьянин.
Крестьянка.
Мастеровой.
Человек в очках.
Студент.
Студентка.
Мальчишка.
Учительница.
Торговка.
Нищенка.
Горничная.
Бабы, шансонетки, публика.
Перекресток петербургской улицы. 3 апреля 1881 года. Раннее утро. Морозно. На углу правительственное объявление, извещающее о предстоящей казни государственных преступников. Их повезут здесь. Медленно сходятся люди. Каждый хочет занять место повыгоднее, откуда лучше будет видно. Все неестественно оживлены. Толпа, ее жизнь, настроение – постоянный фон происходящих событий.
Мастеровой (гасит один за другим фонари). Всем поглядеть охота, ох, народ… что балаганы на Марсовом, что казнь… С Охты идут, с Коломны тянутся, Васильевский на ногах с ночи… Ох, народ, ну, народ… (Продолжает гасить фонари. Уходит.)
Появляется торговка с ящиком, скамейкой и жаровней.
Торговка (пробует голос). А вот горячие, а вот горячие, с пылу с жару, а вот… (Обычно.) Замаялась совсем, господи… Здесь в подворотне, что ли?
Входят два господина – Западник и Славянофил.
Славянофил. Уж будьте справедливы, это лучшая судебная речь нашего столетия. Ваши французы гордятся витийством Гамбетты, но, уверяю вас, речь прокурора Муравьева…
Западник. Он все еще товарищ прокурора.
Славянофил. Ну, это уже ненадолго. Когда он указал на цареубийц, это был жест, достойный новгородского веча.
Торговка (вдруг громко). А вот горячие!
Западник. Дура!.. А вы знаете о том, что трое весьма известных представителей нашей юстиции отказались быть обвинителями и молодого Муравьева нашли лишь в последний момент. Полагаю, европейское общественное мнение сыграло в их отказе не последнюю роль!
Славянофил. О господи, доколе ж будем Европою судить отечественные наши драмы! (Понизив голос.) Но я их понимаю… Однако же если быть справедливым…
Входит Сановник.Славянофил и Западник сдержанно кланяются ему.
Западник. У вас есть билет к эшафоту?
Сановник(возбужден, у него в руках газета). Вы послушайте, вы послушайте, господа, что они теперь-то пишут! (Читает газету.) «Царь убит. Русский царь у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах у всех. Вот как а? Вот как они теперь пишут в своей слезливой газетенке! А кто, как не они?.. Кто, как не они, наши доморощенные либералы, толкали его на реформы, на бесконечные изменения, преобразования, улучшения, усо-вер-шен-ство-ва-ния? А? Кто, я вас спрашиваю!
Входят крестьянин и крестьянка.
Крестьянин. Здесь, что ли, станем?
Крестьянка. Как скажешь…
Торговка. А ну, рязанский, помоги!
Крестьянин. Помочь можно, отчего не помочь. (Берется за ящик.) Тетка, булькает что-то. (Рывком поднимает ящик.)
Торговка. Да тише ты, скаженный, не разбей, а то я тебе булькну – товар весь попортишь!
Сановник (продолжая читать газету). А теперь они пишут: «…русскою же рукою. Пусть жгучая боль стыда и горя проникнет из конца в конец нашу землю…»
Крестьянин (отнес ящик в подворотню). А здесь видать будет?
Мастеровой (возвращаясь). И чего тебе видать-то надо! Ну, народ…
Крестьянин. А как злодеев кончать будут. Всякому посмотреть лестно… У государя и указ, говорят, готовый на столе лежал, чтобы, значит, платежи за землю сымали, а господа его за это и…
Торговка. Впервой в Петербурге, что ли? Болтаешь, гляжу, много. (Пробуя голос) А ну, кому горячие, а вот горячие!..
Сановник (продолжая читать). А теперь они пишут: «И содрогнется в ней ужасом и скорбью всякая душа!» Позволю себе спросить, милостивые государи, где душа ваша раньше-то была?!
На перекрестке становится оживленнее. Толпа растет.
Справа на авансцене – домашний кабинет товарища прокурора Муравьева. Слева – камера Желябова.
Николай Валерианович Муравьев – молодой человек, быстрый и нервный. Он готовит обвинительную речь. Работает серьезно, без тени иронии. Готовые места произносит вслух, с пафосом, увлекаясь, воображая перед собой зал суда.
Желябов готовится к защите. Так же, как и прокурор, он пробует репетировать некоторые места своей речи. Так же, как и прокурору, ему едва исполнилось тридцать лет.
Муравьев. Провидению было угодно избрать меня голосом русской совести… Это моя Плевна… (Задумывается.) Главное – торжественность и в необходимом месте – страсть. (Берет со стола бумагу, читает, жестикулирует.) Речь моя должна покоиться на двух принципах. Принцип первый – такого еще не знала история. Принцип второй – моими устами говорит вся Россия. Что ж, она и в самом деле говорит моими устами, господин Желябов. Моими, а не вашими! Начну так: «Господа сенаторы, господа сословные представители! Призванный быть на суде обвинителем неслыханного в истории человечества злодейства, я чувствую себя неспособным…» Плохо «неспособным»… «Я чувствую себя подавленным», да-да, подавленным. Итак: «Господа сенаторы, господа сословные представители…» И здесь нехорошо – «истории человечества»… Это после, понятие «русский» нужно заявить тотчас же, тогда в апогее я откажу злодеям в праве именоваться русскими… (