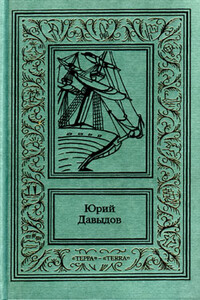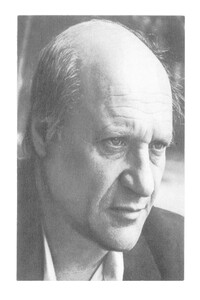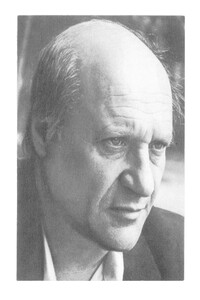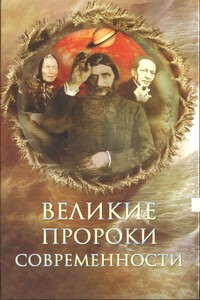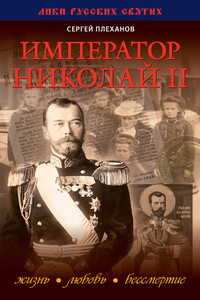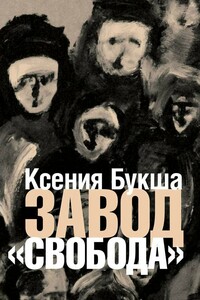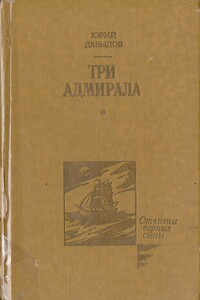Едва завязывалась артиллерийская дуэль, сигнальщики вбегали на возвышения. Вбегали легко, даже, пожалуй, щегольски, как на ванты. Они первыми видели черный полет смерти. И кричали зычно, как впередсмотрящие:
— Берегись, наша!
Или:
— Чужая!
А смерть присвистывала:
— Чьи вы?.. Чьи вы?..
— Разрешилась! — кричал сигнальщик.
И тотчас грохот: бомба «разрешилась от бремени». Случалось, что она плюхалась где-то неподалеку, в рытвину, в яму, наполненную недавним ливнем, и тогда начинала шипеть прерывисто и злобно. А матрос-сигнальщик, озорничая, поддразнивал:
— Пить… Пить… Пить…
Нахимов объезжал севастопольские бастионы. Во всем облике Павла Степановича не было ничего воинственного, картинного: фуражка почти на затылке, сбившиеся на коленях брюки без штрипок. Он объезжал позиции на смирной лошадке, сидя в седле неловко, как сидят моряки. Слезал с лошади неторопливо и осторожно, не так, как выпрыгивал из шлюпки на влажную гальку, где сипел прибой.
Отнюдь не писаный красавец, в мешковатом сюртуке, при шпаге (трофейной, отнятой у турецкого флагмана), рыжеватенький и голубоглазый, он осматривал укрепления, разговаривал с офицерами, с матросами и солдатами, и разговор его был так спокоен, будто свист, грохот, самая смерть не имели решительно никакой важности ни для него, ни для тех, кто был рядом.
Потом он поднимался к сигнальщику. Адмиральские эполеты горели густым, спелым блеском. Неприятельские стрелки сразу примечали сутуловатую фигуру с подзорной трубой. Офицер молил Павла Степановича сойти вниз. Нахимов отмалчивался. Иногда ворчал, что никого-с не держит-с, господин офицер волен укрыться в блиндаже, а он, Нахимов, должен поглядеть, что делается у господ союзников.
Пальба не умолкала.
— Берегись! — кричал сигнальщик.
Бомба присвистывала:
— Чьи вы?.. Чьи вы?
Бомбы были из каши. Хлебный мякиш раскатывали в блин, насыпали жидкой гречневой каши — получалась бомба. Бомбы швыряли в эконома, по-нынешнему сказать, интенданта, хозяйственника, едва тот показывался в столовой. «Бомбардировка» считалась бунтом.
Бунтовщиков пороли. Впрочем, бунтовали в корпусе значительно реже, нежели подвергались порке. Мальчишеские тощие зады белели на жесткой скамье. Из дежурной комнаты доносились вопли, как из зубодерни.
Жизнь почти отжив, многие бывшие воспитанники вздрагивали, вспоминая корпусные наказания. Даль (составитель знаменитого словаря) писал, что в его памяти «остались одни розги, так называемые дежурства, где дневал и ночевал барабанщик со скамейкою, назначенной для этой потехи».
Россия времен Петра представлялась Пушкину кораблем, спущенным на воду при стуке топора и громе пушек. Корабельные офицеры из поколения в поколение вступали в строй при барабанном бое и свисте розог.
В 1813 году недоросль из дворян Павел Нахимов подал прошение о зачислении в Морской шляхетский корпус. В прошении, как водится, сообщалось, что недорослю одиннадцать от роду, что родитель его отставной майор, помещик Смоленской губернии, что обучен Павел «по-российски и по-французски читать и писать и части арифметики».
Вакансий в корпусе не было. Однако смоленского отрока зачислили кандидатом. Так же поступили и с прочими. Не различая Луконина и фон Мейснера, Ограновича и Буаселя — лишь бы дворянин.
Кто поступал в морские учебные заведения, знает, как долог, как нескончаем кандидатский искус: господи, боже ты мой, да когда ж, когда ж признают тебя «полноценным»?
Более двух лет Нахимов был кандидатом. Но его уже осенили паруса. Бриг ходил «между Кронштадтом и петербургскими вехами, обучая гардемарин разным поворотам и действиям парусов при всяких направлениях ветра».
В 1815 году Павла Нахимова включили в списки воспитанников Морского корпуса. С палубы «Симеона и Анны» явился он в Петербург, на Васильевский остров, в эти здания, соединенные дворами, темными коридорами и полутемными галереями.
Учили не вразвалку, плотный был учебный день: с восьми утра до полудня; с двух пополудни до шести; с семи вечера до одиннадцати. Начинали арифметикой. Очевидно, не очень-то полагались на познания, указанные в прошениях. И кадеты грызли гусиные перья, клонясь над задачником:
Нововъезжей в Россию французской мадаме
Вздумалось оценить богатство в ее чемодане;
А оценщик был русак,
Сказал мадаме так
«Все богатство твое стоит три алтына,
Да из того числа мне следует половина»
Успехи определялись не баллами, а словесно: «отлично»; «хорошо»; «весьма и очень хорошо»; «хорошо»; «довольно хорошо»; «посредственно».
Но если оценивать самих учителей, то… То, право, не следует полагаться на безапелляционный приговор Завалишина: дескать, «при общей серости учителей кадеты могли брать только своими способностями или прилежанием». Нет, не только! Это натяжка, преувеличение. Может, и были «серые» (в каком заведении их не бывает?), да были и отнюдь не таковские. Александр Беляев (впоследствии декабрист) описал на склоне лет Морской корпус нахимовской поры. Беляев рассказал и о прекрасном математике Исакове, и о добрейшем и дельном учителе английского языка Бругенкате, и о словеснике Груздеве, который не уступал педагогическим дарованием ни математику, ни англичанину. Наконец, в числе корпусных воспитателей был и такой высокоталантливый, образованный и гуманный человек, как Николай Александрович Бестужев.