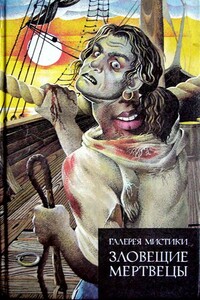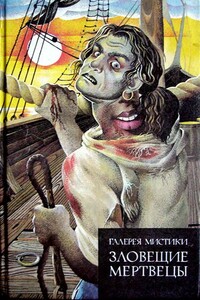На свете жил чудесный певец. Он пел не только задушевно, от всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги.
Его разноцветные песни были так хороши, что вскоре он стал самым любимым народным певцом.
Между тем певец не был счастлив…
Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось спеть такую песню, которая бы понравилась всем. Всем без исключения.
Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-росяными искорками, его, затаив дыхание, слушали все юноши и все девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весеннюю песню то слишком розовой, то чрезмерно зеленой.
Когда же певец пел алую песню с синей каймой раздумья и серебристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет распахивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато малолетки не обращали на эту песню никакого внимания. Потому что они любили песни ярких цветов и четкой раскраски. Игривые. Узорчатые. Даже клетчатые. И для них приходилось петь особо, как и для стариков. Этим нравились песни строгих расцветок и глубоких колеров.
Разные песни оценивались различно людьми не только по их возрасту, но и по характеру. Весельчаки любили канареечно-желтые, лихо-малиновые и пунцовые песни. Угрюмым нравились песни темно-коричневых и вишнево-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные люди обожали песни любого цвета, лишь бы они были пестры и нарядны…
До седых волос певец добивался такой песни, которая бы полюбилась всем. И старым и малым. Жизнерадостным и печальным. Задумчивым и бездумным. Из его светлой души вылетали звонкие жар-птицы изумительной красоты звучания. Ими любовались тысячи людей, но каждый раз находились такие ценители, которые выискивали в песне изъяны. Более того — они глумились над нею и даже втаптывали ее в грязь.
Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь.
— Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить всех полюбить хотя бы одну мою песню, — жаловался на себя, на свой голос певец.
Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его услышало солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило певца золотыми лучами.
— Мой названый брат, — сказало солнце. — Тысячи лет я раскрашиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не могу. Потому что каждому нравится свое. И это очень хорошо.
— Что же в этом хорошего? — негодуя, воскликнул певец.
— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать новые песни, а мне — каждый день по-новому всходить.
Так сказало солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тысячи тысяч цветов и оттенков нашу землю.
От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось походить на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги.
И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и слушай. И если из сотен его песен кому-то понравится только одна, — значит, певец не зря прожил жизнь, не зря вдохновлялся солнцем.
В стране, названия которой уже никто не помнит, жил удивительный чеканщик ваз. Если, чеканя вазу, он был весел, то она веселила всякого, кто ее видел. И наоборот: когда мастер грустил, его творение порождало печаль и раздумья. Он прославил свою страну множеством ваз, будивших в людях самые различные чувства: радость, смех, раскаяние, бесстрашие, скорбь, прощение, примирение… Но среди сотен его творений не появилось главного — вазы Любви. Потому что любовь еще не расцвела в душе молодого чеканщика, хотя молва, опережающая события, уже называла одну прекрасную девушку…
Однако не будем подражать молве и предрекать несвершившееся. Пусть молва сильна и непреклонна, подобна ветру, но между тем паруса жизни, как, впрочем, и сказки, нередко подвластны иным силам.
В этой же стране жил горшечник. Он не выделялся среди других гончаров своим ремеслом, но его дочь была так хороша собой, что о ней знали даже звезды.
Глаза дочери горшечника были синее моря и неба. Ее зубы нельзя было и сравнить с жемчугом, который всего лишь подражал зубам красавицы. А где и когда подражание превосходило то, чему оно подражает!
Тончайшее шелковое волокно казалось тростником в сравнении с золотисто-солнечными волосами красавицы. Змеи цепенели от зависти при виде грациозности движений ее рук. Ручей, нежно журчавший серебряными стихами, умолкал, как только она начинала говорить. Розы стыдливо переставали благоухать, когда она приближалась к ним и ее дыхание наполняло пространство ароматами, каких не знало ни одно растение, потому что она была самым прекрасным цветком земли. Впрочем, и это сравнение, как и все, что было сказано о ней, не стоит даже одной из ста граней вазы Признания, которой чеканщик воспел красоту дочери горшечника.
И это признание было так возвышенно и так пламенно, что всякий, любуясь новой вазой, восторгался и той, чью красоту она прославляла в не виданном доселе изыске изумительной чеканки.
Когда дочь горшечника любовалась вазой Признания, ее сердце зажигалось нежно-голубым пламенем, и девушка, светясь изнутри, становилась еще прекраснее.