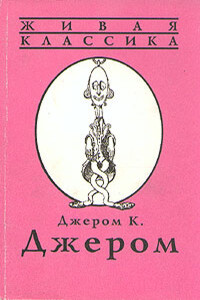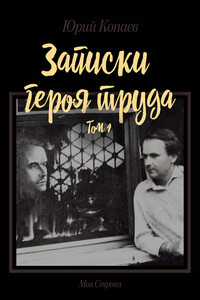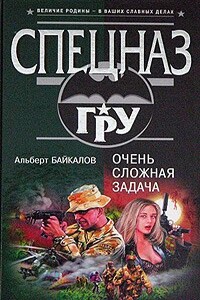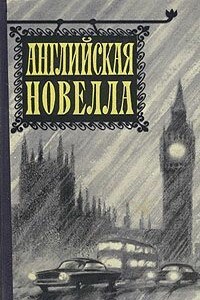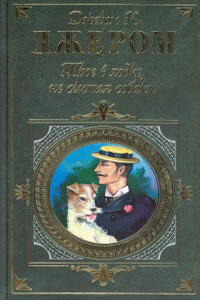Я старался оставаться, насколько возможно, верным истине, когда писал те страницы, которые прочтет мой читатель. Вспоминая о том, что пришлось мне пережить, я пытался проникнуть сквозь ту волшебную завесу, которую накидывает время на все то, что прошло и что оно оставляет далеко за собою, и видеть все вещи в их настоящем свете — как камениcтый путь, так и веселый ландшафт, как терновник и колючий кустарник, так и зеленую траву и колышущиеся от ветра деревья.
Теперь, когда мой труд окончен и мне, при моих воспоминаниях о прошедшем, уже не нужно более прибегать к помощи подзорной трубы, это прошедшее снова покрывается как бы дымкой, теряет свои резкие очертания, и сцена опять представляется мне тою прекрасною, волшебною страною, какою она когда-то являлась в моем воображении. Я забываю о мрачных тенях и вспоминаю только о лучах света. Те неприятности и огорчения, которые приходилось мне выносить в то время, кажутся теперь только занимательными приключениями, а досада, которую я испытывал — приятным возбуждением. Я вспоминаю о сцене, как о потерянном друге. Я с любовью останавливаюсь на том, что есть в ней хорошего и забываю о дурном… Я хочу предать забвению тех дурных людей, тех дерзких злодеев и вероломных обманщиков, которые когда-то играли на ней, и помнить только о благородных героях, добродетельных молодых девушках и старых простаках.
Не будем же вспоминать о дурном. Я встречал гораздо больше честных, добрых людей, нежели обманщиков и предпочитаю помнить о первых. Многие честные, добрые люди жали мне руку и мне самому приятно пожать мысленно руки именно таким людям. Я не знаю, где находятся теперь те, кому принадлежали эти руки и эти добрые лица. Много воды утекло с тех пор, как я встречался с ними. Все дальше и дальше уносят меня от них волны житейского моря. Но где бы они ни боролись за свое существование на этом море, я посылаю им свой дружеский привет с того места, где нахожусь сам. В надежде, что они услышат мой голос, несмотря на разделяющие нас волны, я громко приветствую их и искренно, от всей души, желаю им успеха на сцене.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я решаюсь сделаться актером
В жизни всякого человека наступает такое время, когда ему кажется, что быть актером — это его призвание. Какой-то внутренний голос говорит ему, что он — будущая знаменитость и своей игрою потрясет весь мир, Тогда у него является непреодолимое желание показать людям, как нужно играть, и получать за это триста фунтов стерлингов вознаграждения в неделю.
Это случается с человеком, когда ему бывает лет девятнадцать и продолжается лет до двадцати. Но в то время он не знает, что так бывает со всеми. Он воображает, что это только на него нашло какое-то вдохновение, что он слышит какой-то торжественный призыв, и что если он не послушается его, то это будет преступлением; а когда он увидит, что не может сразу выступить в роли Гамлета в главном Уэст-Эндском театре, так как есть много препятствий, то впадает в отчаяние.
То же самое было в свое время и со мною. Я был раз в театре, когда давали «Ромео и Джульетту», и вдруг у меня блеснула мысль, что я должен поступить на сцену, что это и есть мое призвание. Я воображал, что быть актером, это значит только одеться в трико и объясняться в любви хорошеньким женщинам, и вот я решился посвятить всю свою жизнь этому искусству. Когда я сообщил мое твердое решение приятелям, то они старались меня образумить, — то есть они назвали меня глупцом и затем прибавили, что всегда считали меня благоразумным человеком, хотя, надо сказать, что такие слова я слышал от них в первый раз в жизни.
Но отговорить меня от того, на что я так твердо решился, было невозможно.
Прежде всего я принялся изучать великих английских драматургов. Я понимал, что мне необходима некоторая подготовка и что, для начала, именно это мне и нужно. Поэтому я прочел всего Шекспира, от доски до доски — с комментариями, которые меня еще больше запутали, — Бен Джонсона, Бомона и Флетчера, Шеридана, Гольдсмита и лорда Литтона. От всего этого чуть было не помешался. Подвернись мне под руку еще какой-нибудь классический драматург, я бы, наверно, сошел с ума и стал заговариваться. Тогда, думая, что мне будет полезна перемена, я погрузился в чтение фарсов и шуток, но они еще больше нагоняли на меня тоску, чем трагедии, и тогда я начал мало-помалу понимать, что если принять все в воображение, то участь актера незавидна. И я все больше и больше впадал в уныние, как вдруг мне случайно попала в руки маленькая книжка об искусстве грима, и тут я совсем воспрянул духом.
Я думаю, что пристрастие к «гримировке» свойственно всему человечеству. Я помню, что когда я был еще мальчиком, я состоял членом «Западного Лондонского Общества», составившегося с целью давать концерты и другие развлечения. Мы собирались раз в неделю для того, чтобы потешать наших родных песнями нашего собственного сочинения, которые пелись solo, под аккомпанемент концертины, и при этом мы всегда натирали себе руки и лица жженой пробкой. Без этого можно было вполне обойтись, и я даже думаю, что мы терзали бы наших друзей меньше, если бы избавили их от необходимости смотреть на эту прелесть, которая была совершенно излишней. Ни в одной из наших песен не упоминалось о «Дине». Мы даже не говорили друг другу каламбуров; что же касается шуток, то все они принадлежали публике. А между тем мы так добросовестно чернили себе лицо и руки, как будто бы это был какой-то религиозный обряд, а происходило это не от чего иного, как от тщеславия.