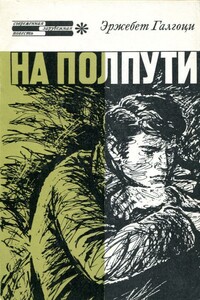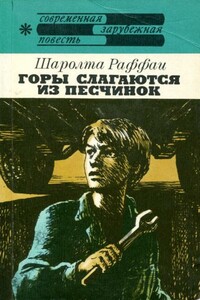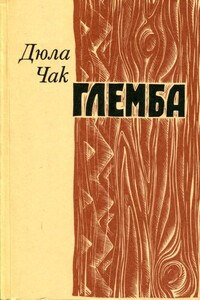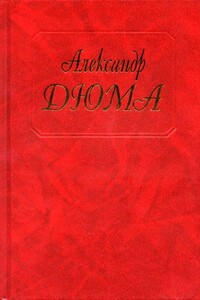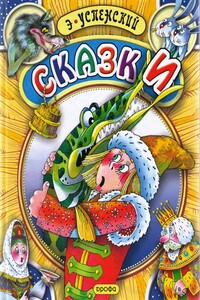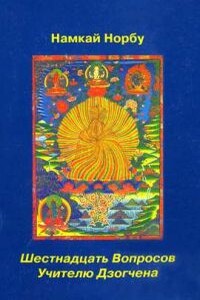© Издательство «Прогресс», 1973.
В венгерской литературе повесть всегда занимала весьма почетное место. За последние же четверть века она стала, можно смело сказать, ведущим жанром венгерской прозы. Из года в год общественное мнение читателей и критиков провозглашает «лучшей книгой года» то одну, то другую повесть; многие из них, получившие в свое время пальму первенства, уже знакомы советскому читателю в переводе на русский язык: «Холодные дни» Тибора Череша, «20 часов» Ференца Шанты, «Приключения карандаша» и «Приключения тележки» Енё Й. Тершански, «Семья Тотов» Иштвана Эркеня, «Смерть врача» Дюлы Фекете, «Как дела, молодой человек?» и «Ты был пророком, милый» Иштвана Шомоди Тота; другие лишь теперь дождались своего часа, чтобы расширить, углубить наше представление о венгерской литературе, о ее идейно-художественном и тематическом богатстве.
Нынешний расцвет жанра повести в венгерской литературе никак нельзя считать простой случайностью. Сами особенности этого жанра на некоторых этапах развития общества неизменно выдвигают повесть на первый план. Случается это, как правило, в периоды наиболее бурного социального роста, становления новых взаимоотношений между людьми, когда многое еще не устоялось, не приняло более или менее стабильной формы. В такие периоды писатели, ощущающие себя глубоко связанными со своим народом, считающие своим первейшим долгом помогать людям разбираться в сложных явлениях действительности, естественно, обращаются к форме наиболее емкой и гибкой, которая позволяет откликаться на самые животрепещущие события, не утопая в эпической многоплановости романа и не ограничивая себя слишком конкретной фактурой рассказа, — к форме повести. «Серединное» положение повести в прозаической литературе позволяет ей, сохраняя присущую рассказу выборочность детали, неразветвленность фабулы, охватить значительный период в жизни героя, героев, даже страны; она может, напротив, не раздвигая временны́х и территориальных границ повествования, уйти в глубинные сферы жизни духовной, психологии человека и общества — в те сферы, где столько открытий принадлежит роману.
В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов с особенной, небывалой доселе остротой стоял вопрос коренной перестройки венгерской деревни, окончательного становления ее на путь социалистического развития. Одной из первых попыталась тогда осмыслить встававшие перед деревней, перед крестьянством проблемы совсем еще молодая писательница Эржебет Галгоци в повести «На полпути».
Крестьянская девочка, седьмой ребенок в семье, стала писателем. За этим контуром судьбы Эржебет Галгоци просматривается многое: и личная ее незаурядность, и тот коренной социальный поворот, который в годы ее юности изменил всю жизнь Венгрии.
Эржебет Галгоци родилась в 1930 году в селе Менфёчанак — «совсем неподалеку от Европы». В этой фразе Галгоци ощутима и мягкая ирония, но еще более — та непомерная удаленность от цивилизации и подлинной культуры, в какой прозябало венгерское село ее детства и из которой оно энергично начало выбираться после освободительной весны 1945 года.
Уже успев почувствовать затхлость и историческую обреченность единоличной деревни, по-юному радуясь повеявшим вдруг свежим ветрам, Галгоци вместе с тем, в силу обстоятельств собственной жизни, наблюдала процесс кардинальной перестройки не со стороны, а изнутри, через конкретные судьбы, через личные драматические коллизии, которые создавала новая жизнь. Вероятно, именно это и повлияло решающим образом на формирование ее таланта, сделало писателем истинно драматического склада. «Если бы людям было дано выбирать, где родиться, я и тогда вряд ли нашла бы себе более подходящее, более интересное и насыщенное конфликтами место, чем деревня; я не могла бы родиться удачнее, чем среди крестьян крестьянкой, — писала Э. Галгоци. — За минувшие двадцать лет в нашем обществе произошли огромные изменения, но более всего перемен выпало на долю крестьянства, одного из самых многочисленных у нас общественных слоев».
К этому общественному слою вот уже на протяжении двадцати с лишним лет неизменно приковано пристальное внимание Галгоци, сперва журналистки, одаренной ярким писательским видением и гражданским мужеством, позволявшими ей глубоко проникнуть в самые сложные и противоречивые жизненные процессы, потом — профессионального писателя. Нельзя сказать, будто бы деревня — единственная область ее интересов, наблюдений, раздумий. «С той поры как я ощущаю себя писателем, — признавалась Галгоци в 1968 году, — я неустанно стремлюсь освоить для своего искусства как можно большее пространство в том мире, в котором я живу, а также познать самое себя — то есть человека, живущего в этом мире». Люди, их непростые судьбы и сложные, из множества противоречивых элементов сотканные характеры, многообразные проблемы акклиматизации личности в окружающем мире, в обществе, проблемы взаимообщения людей и человеческого одиночества — все это является предметом неиссякаемого и настойчивого внимания писательницы. Вот почему Галгоци противится желанию некоторых критиков обозначить ее творческий поиск какой-то ограничительной этикеткой, очертить, конкретизировать определенными вешками подвластную ее таланту сферу, уложить на полочку под рубрикой «крестьянская тематика». Но при этом Галгоци знает сама: свободней всего она ориентируется в жизни именно венгерской деревни — этом безбрежном море, где все интересующие ее проблемы существуют, находятся в непрестанном движении, борении, иногда выливающемся в бури. Она же, Галгоци, в этом море — сильный и умелый пловец, она знает умом и инстинктом, врожденным чутьем подспудные его законы и потому вернее многих находит в его просторах нужный путь. И не случайно в ряду нынешних писателей «крестьянской темы» ее все-таки называют одной из первых. Галгоци воспитана на произведениях венгерских народных, «крестьянских» писателей тридцатых годов (Д. Ийеша, П. Вереша, Л. Немета). Однако она не осталась простым их эпигоном, она сделала следующие, самостоятельные шаги по нелегкому и честному пути, проложенному ее почитаемыми учителями. «Причина того, что это служение я толкую несколько иначе, чем когда-то толковали его они, и сама поступаю иначе, лежит в коренным образом изменившейся исторической ситуации, — пишет Галгоци. — Сегодня следует уже не просто любить, не просто приукрашивать или провозглашать святыней деревню, эту средневековую резервацию, и единоличное крестьянство как носителя этой формы жизни, но, помогая начавшемуся уже по всей стране процессу распада старой деревни, способствовать прогрессу, ускорять его. Сегодня уже мало сказать о ком-то, что он крестьянский писатель, сегодня непременно нужно добавить также, какого крестьянства он писатель: того, каким оно было, или того, каким становится?»