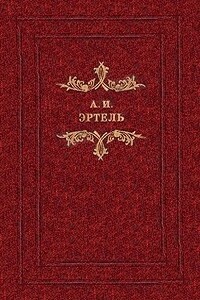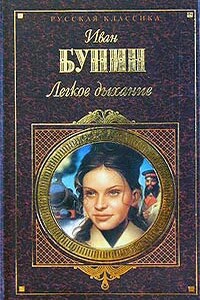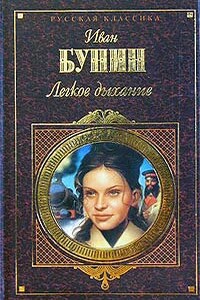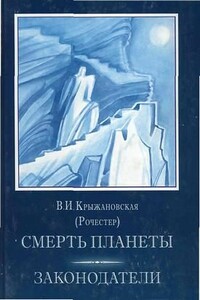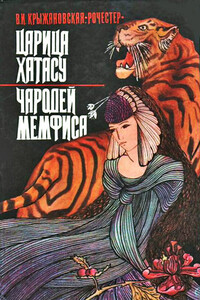Ночь стояла тёмная и туманная. По небу неслись свинцовые, дымные тучи; воздух был душен. Раскаты грома, как пушечные выстрелы, потрясали всё кругом, и молния, бороздившая хмурое небо белесоватым светом, зловеще озаряла вековые деревья могучего старого леса.
Опираясь на посох, шёл по лесу согбенный старец в белом холщовом подряснике и лаптях. Тусклый блеск молнии освещал на мгновения его морщинистое лицо, обрамленное седой, точно искрящейся бородой.
Старик торопливо шагал, и порой тяжёлый вздох вырывался из его груди. Выйдя из лесу, он спустился в долину, и перед ним стали вырисовываться всё яснее и яснее очертания громадной зубчатой стены, из-за которой виднелись златоверхие, увенчанные крестами церковные купола. Но теперь блеск их потускнел, будто окутался дымкой.
Врата монастырской ограды были распахнуты настежь, и, когда подошёл старик, из них вышел инок высокого роста, в схиме. Длинной вереницей следовали за ним монахи. Головы их были опущены, на лицах отражалась глубокая скорбь, уста шептали молитву.
Все они вышли из ворот обители и, вместе со старцем, двинулись по дороге к первопрестольной.
На царской площади теснилась несметная и удивительно смешанная толпа. Были тут и крестьяне, и древние воины в шлемах, шишаках и кольчугах, и бояре в парчовых шубах и горлатных шапках, и солдаты позднейших времён, израненные и увечные. Словом, люди всех возрастов, веков и сословий сошлись здесь и, бледные от ужаса, растерянно смотрели на высокий, воздвигнутый посредине площади эшафот, на котором стоял, подбоченясь и опираясь на топор, палач в красной рубахе. На его бородатом лице написана была неумолимая жестокость.
— Кому же голову рубить-то будут? Кого ждет лютая казнь? Кто тот страшный злодей, которого хотят пытать и казнить тёмной ночью? — шёл в толпе смутный, боязливый говор.
Народ на площади волновался и гудел, пугливо озираясь по сторонам, видимо, в ожидании чего-то ужасного; одни крестились, другие с молитвой падали на колени.
А небо становилось всё чернее и чернее, воздух удушливее, и молнии точно огненным мечом рассекали мрачный небосвод.
Вдруг разразилась буря. Ветер свистел, жалобно выл и плакал, вздымая тучи пыли, с корнем вырывая деревья и раскидывая, словно солому, людские жилища. Громовые раскаты сливались с воплями и стонами человеческих голосов.
Ураган же свирепел, потрясая древние стены и колыхая прозрачные тени, вышедшие из могил, чтобы присутствовать на чудовищной казни, готовящейся совершиться в старом Кремле. Между тем, толпа всё прибывала.
Под грохот бури привалила новая гурьба, с лицами, залитыми кровью и искажёнными страданиями…
— Мы были предвозвестниками великой беды, — кричали они. — Мы — жертвы Ходынки!.. Наша погибель не утолила судьбы, наша кровь не задержала её хода!..
Их отчаяние передавалось толпе; рыдания и крики ужаса стояли в воздухе…
Один лишь палач, стоявший на помосте высоко над толпой, был невозмутим, и на его губах змеилась глумливая, дьявольская усмешка.
Но вот, клики новых тысяч голосов заглушили рыдания и причитания собравшегося народа.
Ругаясь и богохульствуя, с проклятиями на устах, надвигалась, как лавина, плотная, тёмная масса мужчин, женщин и детей. Во главе их шли отвратительные существа с бледными лицами, крючковатыми носами и наглыми, хищными глазами. Отравленным дыханием своим они опьяняли послушно следовавшее за ними людское стадо, кричавшее: — Четвертовать!.. Четвертовать!..
А лукавые вожаки неистовствовали, потрясая кулаками и исступлённо вопя:
— Долой крест!.. Прочь веру!.. Прочь Родину, честь, долг!.. Да царствует хаос и смута! Настало наше господство…
Крик, шум и оглушительные рукоплесканья гремели кругом. В руках задымились факелы, и их кровавое пламя словно зажгло небо. Далеко, далеко, куда только хватало глаз, разлилось зарево пожаров, и земля закипала, точно расплавленный металл…
Неистовые вопли и бешеный, дурацкий хохот беснующихся был, в свою очередь, заглушен страшным рёвом. Это мятежники тащили сквозь толпу свою жертву, осужденную ими на четвертование.
Как стая голодных псов, они вплотную окружили женщину — величавой, небесной красоты. Лицо её было смертельно бледно, и в больших, спокойных серых глазах, — кротких и ясных славянских глазах, — читалась душевная мука…
Царская горностаевая мантия была в лохмотьях, забрызгана и едва прикрывала её стройное, прекрасное тело, красоту которого не могли обезобразить даже зиявшие на нём раны. Мономахова шапка едва держалась на голове, и ветер хлестал развевавшимися, роскошными волосами. Могучие, царственные руки, казавшиеся непобедимыми, были скручены теперь верёвками…
Осатанелая ватага с диким воем тащила её, кидая камнями и грязью, к эшафоту, куда и бросила. И великая мученица упала, потеряв сознание и заливая своею кровью помост, где её теперь выставили на позор.
Палач нетерпеливо поднял вверх топор и потряс им над головой, приветствуя разбойников победным торжествующим криком. Наконец-то она. Святая Русь, в их руках! Теперь они вволю натешатся и надругаются над ней и бросят её трепещущие, отрубленные члены воровской шайке, воющей, словно шакалы, вокруг эшафота, алчно дожидаясь своей добычи…