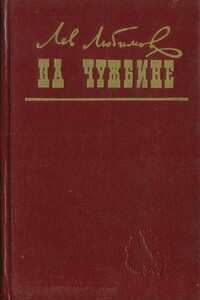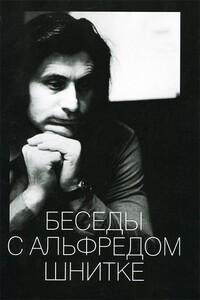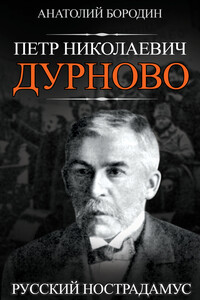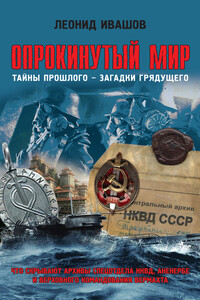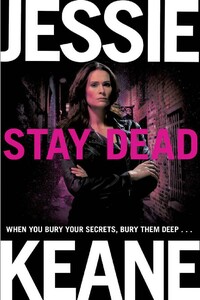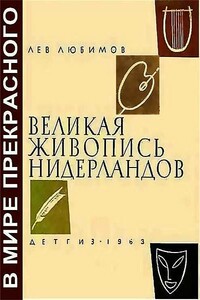Это было в 1949 году. Я приехал из Москвы в Ленинград и, взволнованный, утомленный переживаниями, охватившими меня в этом городе, зашел к вечеру в Русский музей. Там с новой силой нахлынула на меня волна воспоминаний…
В одном из залов нижнего этажа я остановился в изумлении: передо мной во всю стену висела репинская картина «Государственный совет». Какая неожиданность! Я не знал, что это полотно в Русском музее, и никогда не видел его в оригинале, хоть и изучил подробно в далекие времена. Свежесть, блеск репинских красок по-новому оживили для меня знакомую композицию. Несколько минут я смотрел на нее издали, затем подошел поближе, пристально вглядываясь в лица сановников Николая II. Мне всегда казалось, что репинское искусство достигло наибольшей силы и остроты именно в этих портретах, отражающих целое мировоззрение ушедшей эпохи. В этот день я был так возбужден, что мне и впрямь почудилось, будто в зале — живой Победоносцев с его мертвым взглядом и тонкими сухими губами, а надменный Витте непроницаемо усмехнулся, встретившись со мной глазами…
Я сел против картины и долго смотрел на нее, настолько занятый своими мыслями, что не заметил, как рядом со мной уселись еще двое посетителей. Их оживленный разговор вскоре прервал мое раздумье.
— Да нет же, — говорил один, — красная лента — это Станислава. А вот синяя — какая?
— Голубая, — отвечал другой, — это, вероятно, андреевская, раз в ней сам Николай. А синяя — не знаю. Может быть, Владимир?
Я оглянулся. Это были летчики: подполковник и капитан. Ленточки ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени красовались на груди подполковника, орденов Отечественной войны и Александра Невского — на груди капитана.
Подчиняясь настроению, которое владело мной, я, неожиданно для самого себя, вмешался в разговор:
— Голубая лента — это действительно андреевская. А синяя — Белый Орел. Красная же, одноцветная, не Станислава, а гораздо выше — это лента тогдашнего ордена Александра Невского. Им награждались не боевые офицеры, а престарелые сановники.
Офицеры посмотрели на меня с интересом. Задали несколько вопросов: о мундирах, о том, какой пост занимал такой-то сановник или генерал. Расспрашивали обо всем этом, как о далекой странице истории или курьезах, выставленных в кунсткамере. Оба были, видно, удивлены моей осведомленностью.
— Откуда вы все это так хорошо знаете? — спросил наконец капитан.
Я рад был поговорить на тему, тесно связанную с моими переживаниями.
— Видите, там слева, у колонны, над стариками в лентах — молодой еще человек в раззолоченном мундире. Нашли? Это мой отец.
— Ваш отец!..
Я продолжал, не дожидаясь дальнейших вопросов.
— Он был тогда камергером и помощником статссекретаря Государственного совета. Но дело не в этом. Репин выделил его здесь, среди чинов Государственной канцелярии, то есть канцелярии Государственного совета, в благодарность за сотрудничество. Мой отец был прикомандирован к нему в качестве консультанта. Репин подробно осведомлялся о нраве, привычках каждого сановника, чтобы дать в портрете наиболее подходящую позу, особенно характерный жест. Отец всегда сопровождал его в Государственном совете. Репин очень часто приходил на заседании, присматривался ко всему, обдумывая каждую деталь. Я даже помню, со слов отца, о заметках Репина на списке членов Государственного совета. Так, ряд сановников, никогда не выступавших в прениях, были отчеркнуты им сипим карандашом с подписью: «Немые».
Перед другими, которые во время заседании имели обыкновение что-то упорно чертить на бумаге, стояла надпись: «Коллеги». Генерала графа Игнатьева, который вот здесь на первом плане, Репин характеризовал так: «Гастроном, глаза хитрые, умные». А против Победоносцева он пометил: «Так совсем сова — удлинить очки». Это замечание ведь как бы предвосхищает знаменитые блоковские стихи:
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла…
Мои собеседники слушали внимательно и серьезно.
— Когда все это было? — спросил подполковник.
— В самом начале столетия.
А впоследствии что делал ваш отец?
— Он занимал, довольно крупные должности: губернаторские и выше. Когда рухнул царский режим, отец был сенатором, гофмейстером, то есть одним из вторых чинов двора, и ожидал назначения в Государственный совет.
— Он жив еще?
— Мой отец скончался в Париже… Я сам прожил там почти четверть века. На родине я всего лишь год. Ровно тридцать лет тому назад выехал за границу из Петрограда, и вот сегодня первый день, как я снова в этом городе.
Оба офицера смотрели теперь на меня с тем же любопытством, как перед этим — на репинского Плеве или Победоносцева. Очевидно, и я казался им курьезом, которому место в кунсткамере.
Один из них спросил:
Кем вы сейчас работаете?
— Занимаюсь литературным трудом.
— И как вы себя чувствуете на родине после такого длительного отсутствия?
Я ответил словами, которые несколько раз повторял про себя в этот день:
— Как осколок старого мира, который нашел себе место в новом.
Мы вышли вместе и долго еще беседовали в этот вечер. Прощаясь, подполковник сказал мне: