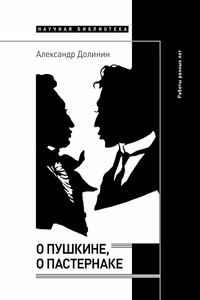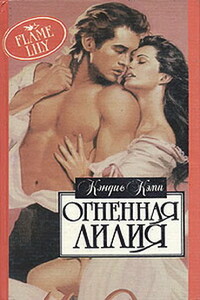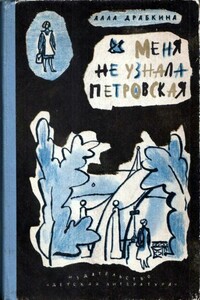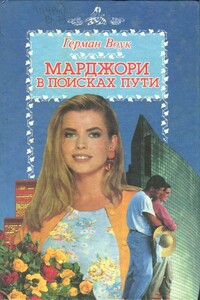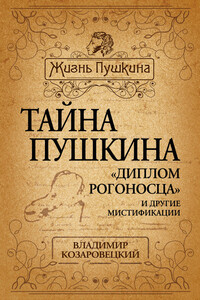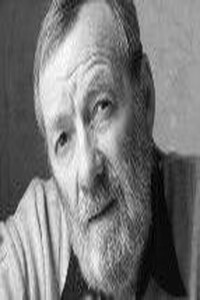КАК ПРОДОЛЖИТЬ ПРЫЖОК НАД ПРОПАСТЬЮ
150-летняя тайна стихотворения Н.Бараташвили
В 1985 году – то ли уловив слабое веянье будущего потепления, то ли от безнадежности мыканья в других жанрах – я попытался вернуться в критику и написал несколько рецензий для отдела национальных литератур «Литературной Газеты». Почти все они были опубликованы, но попытка флирта с «ЛитГазетой» оказалась бесперспективной из-за малой привлекательности материала, предлагавшегося мне на отзыв, и стала бы совсем пустым номером, если бы однажды в списке книг, намечавшихся для рецензирования, я не увидел изданный в Грузии сборник ««Мерани» в русских переводах».
В то время проблемы художественного перевода поэзии меня более чем интересовали: я переводил сонеты Шекспира, даже пытался перевести большое стихотворение Рембо «Пьяный корабль» (французского я не знал, и по моей просьбе мне сделали подстрочник), но после разговора с Е.Витковским, слава Богу, от этой, как я теперь понимаю, безумной затеи отказался; кроме того, параллельно с работой над переводами сонетов я постепенно расширял свою статью «Сонеты» Шекспира: проблема перевода или проблема переводчика?» (впоследствии она была опубликована в альманахе «Поэзия», №50, 1988). Но к этому стихотворению Бараташвили у меня был особый, давний интерес: оно осталось единственным мною непонятым стихотворением поэта, читанного в переводах Пастернака в молодости; кроме того, я знал, что его переводили маститые советские переводчики и что в 1968 году был конкурс Союза писателей на лучший перевод «Мерани».
В сборнике были опубликованы 28 переводов, и мне подумалось, что здесь есть благодатная возможность для сравнений – а сравнивать всегда интересно. Я предложил редактору отдела Л.Лавровой отрецензировать сборник, и, хотя книга была издана в 1984 году и уже несколько «устарела», на мое предложение писать рецензию на свой страх и риск (понравится – берут, не понравится – я не в обиде), она согласилась: «Попробуйте».
Я с предвкушаемым удовольствием раскрыл книгу и, пропустив предисловие и подстрочник, стал читать первый перевод. У меня и раньше были вопросы к этому стихотворению, но я тогда отодвинул их за несрочностью ответов, а тут я сразу же был вынужден снова спросить себя: «Что это такое – Мерани?» Этот образ требовал отчетливого понимания – иначе как мне было разобраться в стихотворении и оценить переводы? И я с удивлением обнаружил, что я опять – не понимаю. Я не понимал образ и не понял стихотворения.
Я стал читать второй перевод – не понимаю. Третий – не понимаю. Я себя дураком не считал и заволновался. Тут я сообразил, что есть подстрочник и уж в нем-то я разберусь. Я вернулся к подстрочнику и заволновался еще больше – я не понимал. Я прочел предисловие Г.Гачечиладзе – оно говорило о чем угодно, только не о том, что такое Мерани; более того, похоже, вся грузинская филология так и не дала ответа на этот вопрос.
Мне все это не понравилось. Чтобы я не мог понять стихотворения, написанного поэтом пушкинской поры?! – Я не мог с этим смириться. Я отложил книжку и стал думать, подбираясь к этой метафоре с разных сторон и то и дело возвращаясь к подстрочнику. Мне понадобилось две недели (смейся, читатель, самое смешное еще впереди!), чтобы разобраться, что к чему, а когда я понял, что имел в виду Бараташвили, мне стало стыдно. Ответ был так прост и подсказок к нему было так много, что можно было бы и не ломать голову так долго. (Разумеется, процесс обдумывания не был непрерывным, я занимался своими делами, – но две недели это стихотворение не отпускало меня.)
Я открыл первый перевод и обнаружил, что переводчик не понял стихотворения. Второй и третий переводчики – тоже не поняли. Я опять заволновался, усомнившись в собственном понимании. И тут я вспомнил (мне бы это вспомнить недели на две раньше!), что стихотворение переводил Пастернак и что его перевод обязательно должен быть в сборнике, – а уж он-то никак не мог не понять Бараташвили. Я открыл его перевод и ахнул: Пастернак не только понял стихотворение, но и ввел формулировку, дал определение, что такое Мерани, – причем в первой же строке перевода.
Я был уверен, что любой современный переводчик, переводя «Мерани», обязательно заглянет в перевод Пастернака, а перевод этот предлагал ключ к стихотворению. Я прочел переводы Евтушенко, Лугового, Смелякова и убедился: либо они не заглядывали в перевод Пастернака, либо не поняли предложенный им ключ, потому что из их переводов было видно, что они переводили, не понимая стихотворение.
Среди опубликованных в сборнике был и перевод поэта, который пропустить пастернаковский перевод просто не мог, – Ахмадулиной. Тот факт, что и она не поняла первой строки пастернаковского перевода, заставил меня снова задуматься; мне, наконец, стала ясна и причина, по которой эта строка оказалась прозрачной для меня и была не понята переводчиками: к тому моменту, когда я обратился к переводу Пастернака, я уже знал ответ; не поломай я до этого голову, я, скорее всего, тоже не понял бы пастернаковскую формулировку (как я не понял ее когда-то и как ее не понял никто из остальных переводчиков), поскольку Пастернак поставил в первой строке слово из своего словаря и в значении, в каком оно уже не употребляется в русском разговорном языке.