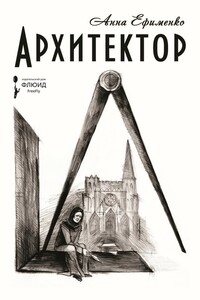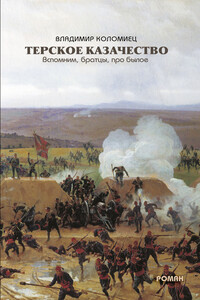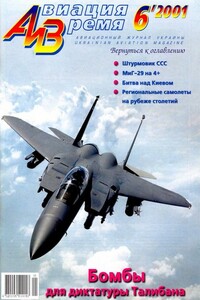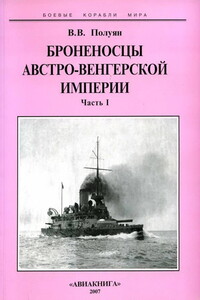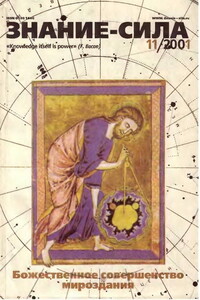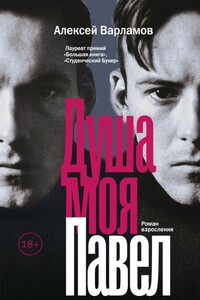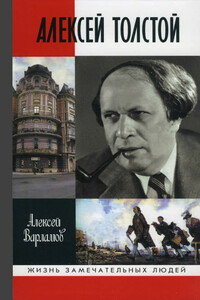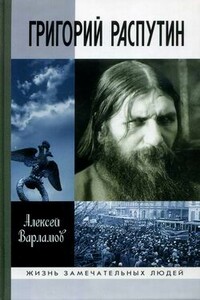Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветреном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без устали и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла — она невысокая была и телосложением хрупкая, — а потому что умела бежать, — что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, и Уля физически этот полубег-полулет ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда из яви в сон не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет. Тайный страх обезножеть истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломи и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась — ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде ни купалась и сколько б ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островами лесов среди болот — гривами, как их тут называли, — с лесными озерами, ручьями и заливными лугами одновременно успокаивала и будоражила ее, и, если б от Ули зависело, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, рассеченный короткой широкой рекой и изрезанный узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в Высокие Горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу он не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, отчего болезненное, землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрякших век. На горбунковских мужиков этот хитрый опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному приходили к механику советоваться насчет земли и хуторов, но об этом Василий Христофорович сказать не умел, однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить и неизвестное им выведать.
Иногда к неудовольствию молодой жены Комиссаров ходил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным нервозным господином, похожим чернявой всклокоченностью не то на цыгана, не то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем, жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика князя Люпы — загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного — своего управляющего. Про них двоих говорили дурное, но Легкобытов в эти слухи не вникал, он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по двадцать копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали, критика их то лениво бранила, то снисходительно хвалила, а механик Комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем и почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов лихо разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На первых он не обращал внимания, а от вторых отбивался отработанным приемом: когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Матвеевич относился только к чужим псам, в своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость и дивные давал имена — Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальма, Нерль, а у иных было и по два имени: одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал в Анчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким.
После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у Легкобытова оказывались порванными и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак у них было трое детей: младшие — общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец, а старший — белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами, — Алеша, был Пелагеиным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал, и не потому, что Алеша был ему по крови чужой, а потому, что относился к детям равнодушно и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось — отметал и в голове не держал.