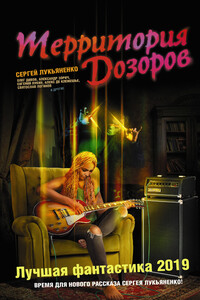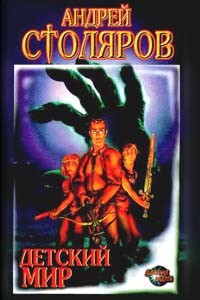1
Коридор тёмен, только в самом конце его истеричной бабочкой пульсирует люминесцентная лампа. Прерывистое жужжание то сильней, то слабей, блики света прокатываются по дверям дортуаров с обеих сторон. За дверями — продолговатые спальни, каждая на двух человек, и на каждой кровати — тело, как кокон, стиснутое твёрдыми слюдяными чешуйками. Такие же тела — на полу. Хорошо ещё нет запаха тления. Зато обжигает горло и ноздри едкой щёлочью дезинфекции. Правда, Яннер знает, что это никакая не дезинфекция, просто так на последней, летальной стадии пахнет чума.
Всё же ему немного не по себе. Воспоминания до сих пор прошибают его приступами горячего страха. Ему, видимо, уже никогда не забыть, как он очнулся ночью, будто услышав слабый, но явственный зов, как осознал, что не в силах противиться этому таинственному влечению, как, плохо соображая, что делает, тихонечко выскользнул из дортуара, как крался на цыпочках к школьному карцеру по затенённому хозяйственному тупичку, как у него чуть не лопнуло сердце, когда показалось, что с лестницы, ведущей на второй, учебный, этаж донёсся невнятный звук, как он всё же преодолел себя и двинулся дальше, как вытащил шплинт, фиксирующий петли засова, как осторожно, чтобы не дай бог не заскрежетало, миллиметр за миллиметром, отодвигал сам засов, как, обмирая, приоткрыл тяжёлую дверь и как узрел фемину, напряжённо застывшую посередине тесного карцера. И как потом, уже в дортуаре, его встретили тёмные, распахнутые от ужаса глаза Петки.
Ещё две недели назад подобные рассуждения шокировали бы его до глубины души. Ведь действительно ересь. За неё, если кто-нибудь донесёт, Инспекторат сразу же приговаривает к «реабилитации» или даже к полной «переработке». Однако это было две недели назад, с тех пор чума смертным ножом отрезала всю прошлую жизнь.
— Таков был его замысел: мир, построенный на любви, — говорит отец Либби. — Мы этот замысел исказили. Мы взрастили мир из всеобщей ненависти: бедные против богатых, чёрные против белых, подчинённые против начальников, граждане против власти, китайцы против американцев, американцы против арабов, мусульмане против христиан, больные против здоровых, и наконец закономерный итог — гендерная война. Думаешь, она вспыхнула из-за мутации вируса джи-эф-тринадцать? Нет, её породила ненависть, дошедшая до предела…
Отец Либби перестаёт дышать около семи утра. Яннер впадает в дрёму и пропускает миг, когда это происходит. Просто открывает глаза и внезапно осознает, что не слышит больше болезненного сипения воздуха. Лицо отца Либби спокойно и неподвижно. Уже слегка рассвело, и в куче тряпья, раскинувшейся у школьных ворот, можно разглядеть красную ткань бейсболки. Значит, это Альфон. Красная бейсболка — это точно Альфон… Яннер смотрит на слюдяное лицо отца Либби и думает, что, вероятно, надо что-то сказать. Таков ритуал. Если человек умирает, о нём надо что-то сказать. Но он не может подобрать подходящих слов. К тому же он видит, как из предутренней дымки, из серой мглы, которая становится всё светлей и светлей, словно трилобит из палеозойского океана, неторопливо выползает пузырь санитарной танкетки, останавливается перед телом Альфона, а вслед за ним выступают фигуры в прозрачных шлемах, в жёлтых костюмах биозащиты.
Начинается зачистка инфекционного очага. Надо немедленно уходить!
Яннер хватает мешок, наподобие рюкзака, поспешно запихивает туда куртку, запасную рубашку, горбушку хлеба, пачку пищевых концентратов, кружку, ворох таблеток из аптечки отца Либби, что-то ещё, что сверху, что попадается на глаза, рассовывает по кармашкам нож, две зажигалки, ложку, ещё один нож, плитку гематогена… Он в отчаянии: надо было всё это подготовить заранее!..
Тем не менее, минуты через четыре он уже открывает дверь чёрного хода и шагает в сыроватую мглу.
Идёт тем же путем, что ушла фемина.
Вроде успел.
Ступать он старается осторожно и следит, чтобы от санитаров его заслоняло здание школы. Впрочем, освещение здесь отсутствует, вряд ли они сумеют его разглядеть. А поисковые вертолёты поднимутся не раньше, чем через час. За это время он вполне сможет скрыться в лесу.
Яннер протискивается в дыру ограды.
Жалеет он лишь об одном — что так и не нашёл нужных слов для отца Либби.

Родителей своих я почти не помнил. Отец Либби позже сказал, что они были донорами из группы «Возрождения человека». Донорство означало, что в своём теле они не допускали никаких генных модификаций. А ещё оно означало необходимость скрываться, поскольку мы жили в голубом ареале. Жёсткого гендерного разграничения тогда ещё не было, и всё же нам приходилось часто переезжать из-за неприязни соседей. Но когда вспыхнула эпидемия вируса джи-эф-тринадцать, когда эскадроны смерти, созданные «розовыми пантерами», начали выжигать пограничные области, стремясь образовать на их месте непреодолимый санитарный кордон, когда «голубые львы» нанесли ответный удар, вся группа растворилась в кровавом хаосе, прокатившемся по множеству поселений. Натуралов безжалостно уничтожали и те, и другие. Меня спас отец Либби: моя мать во время сумасшедшего бегства исчезла неизвестно куда. Помню, как меня потрясло это известие. Причём вовсе не то, что моя мать бесследно и безнадёжно исчезла, а то, что у меня вообще была мать. И значит я — натурал. Я ведь до шестнадцати лет был убежден, что являюсь таким же клоном, как все, кто меня окружает. Даже кодификация моей линии «НЕР», трехбуквенная, то есть свидетельствующая о маргинальности, не порождала во мне никаких сомнений.