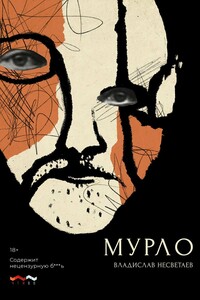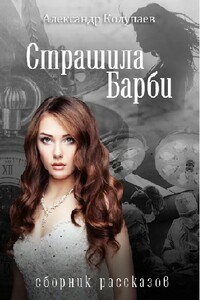Рязанское направление Московской железной дороги по понятным причинам (географическим, конечно) у жителей небольших уральских деревень спросом не пользуется. Оттого странным может показаться тот факт, что Егор Кобяков, уроженец села Мешково Челябинской области, уже четвёртый раз за полгода ехал из Москвы в Рязань на электричке. Но факт этот странен лишь на первый взгляд. У Егора была цель. И положил он на её достижение многое. В начале июля, вон, машину продал. Ночами не спал: всё думал. С отцом пересобачился. Тот его маньяком стал называть. Справедливо, наверное.
Смотрел Егор на хмурое летнее небо стеклянными глазами и сосредоточенно думал. Вот-вот должен был сорваться дождь. Вдалеке уже сверкало, рычало. А пасущимся коровам — хоть бы хны. Всё жевали, хвостами махали да круги вокруг своих колышков наматывали. Душно было в вагоне. Набито было так, что хоть голову из форточки высовывай, лишь бы свежим воздухом подышать. А Егору — ничего. Жарко, конечно, было, как и всем. Текло с него, как и со всех. Но такими эта духота, эта липкость казались ему незначительными, что даже пот со лба он не вытирал, а только размазывал по мутному стеклу. Всё следил Егор за тропами в сухих полях. По одной женщина в платке шла, тяжёлая, смурная. В руках — вёдра с водой. Егор подумал про свою мать. Та тоже без коромысла таскает. Вода у этой женщины из вёдер выплёскивалась, падала на пыльную землю и поднимала в воздух жёлтые облачка. Пых. Пых. Пых.

В дверях вагона возникла тучная потная женщина с дутой клетчатой сумкой в руках и начала громогласно объявлять, чего она сегодня утром такого наготовила: пирожки и с капустой, и с картошкой, и с яйцом. Из сладкого — компот. Никому из пассажиров, конечно, не были интересны ни эта женщина, ни её пирожки. Ведь совсем недавно проходила её коллега. Но та с мороженым, холодным пивом и газировкой.
Егор стал взглядом провожать эту женщину с пирожками и компотом к выходу. Когда она прошла мимо лабрадора на поводке, тот с интересом понюхал её клетчатую сумку и перевёл взгляд обратно — на маленькую девочку. Та, в свою очередь, широко открыв рот, жадно облизывала губы и голодными глазами смотрела на мужчину со стаканчиком мороженого в руках. Чудной был мужик. Он зачем-то почёсывал вафельный рожок, будто тот был не вафлей вовсе, а зудящим локтем или макушкой головы. И ел он неаккуратно. Как ребёнок. Весь уелся, извозюкался. Все усы белые, будто их владелец только что приложился к кружке кефира. Притом что-то говорил, непонятно к кому обращаясь. А по уголкам рта пенились сладкие белые слюни. Взгляд у мужика был рассеянный и непременно одинаковый, на что бы ни был направлен. В поле ли он смотрел, читал ли надпись на стекле, глядел ли на облизывающуюся девочку — взгляд ничего не выражал. Полная безучастность. А говорил тихо. Может, просто губами шевелил. Никто из соседей его, во всяком случае, не слушал.
Егор этого мужика сразу узнал. Не мог не узнать, ведь уже полгода мысли только об этом мужике в голове и крутились. Про себя он называл мужика мурлом. Страшно стало Егору от неожиданности — он думал застать его в Рязани. Вернее сказать, надеялся. А ещё вернее, уже перестал надеяться. Ехал лишь затем, что ничего другого делать не мог. Искать, искать и ещё раз искать. Ища, он удовлетворялся, будто бы уже и не нужна была находка, а тут вот он — сидит, мороженое уплетает.
Егор, трясясь, поднялся с места и пошёл к мужику, остановился у сидений и стал ждать, пока мурло к нему повернётся. Тот повернулся и, не изменившись во взгляде, продолжил говорить то, что говорил, глядя в окно:
— …в пруду Останкинском зимой утки плавают. Вода не замерзает — мощность такая. А они с 36 000 передают? Что там, атомная станция летает, что ли?..
Егор постоял ещё недолго, послушал мужика и пошёл в тамбур, чтобы на следующей станции сойти.
Зима в тот год стояла уверенная, можно даже сказать, суровая. Погода, если и менялась, то очень подолгу, нехотя и почти незаметно. Когда Степан Фёдорович Домрачёв вечером ясного дня на «Газели» выезжал из Рязани, он и представить себе не мог, что, когда он вечером уже следующего дня доберётся до пункта назначения — в село Мешково, морозная ясность сменится страшной метелью. За полтора часа до этого, когда он, перепутав названия, ездил по селу Михайлово в поисках нужного дома, солнце ещё едва ли не знойно заливало стены ветхих домов, а над снежными просторами мёртвых полей стояла выбеленная морозом дымка. Домрачёв въехал в село, спрятанное со стороны трассы сосновым бором. Взглянув на желтевшие под косыми лучами шапки на сочной хвое, он даже вспомнил про себя начальные строки из «Зимнего утра» Пушкина, а слова «День чудесный» и вовсе проговорил вслух мягким шершавым голосом. Сказав их, эти два слова, он сам себе улыбнулся, взглянул в зеркало на своё усатое лицо, а затем, подняв плечи, настороженно осмотрелся, удостоверился, что один в салоне, покраснев, цокнул языком и тихонько хихикнул.
Домрачёв изжёг много топлива, катаясь взад-вперёд, сканируя сощуренными глазами адреса избушек, и каждый раз разочаровывался всё больше, когда уже успевший надоесть дом всё никак не оказывался на улице Озёрная. Жёлтая «Газель», с настырным постоянством маячившая под окнами, настораживала деревенских. Степан Фёдорович из-за врождённой скромности, кажется, безотчётно ощущал то напряжение, которое прорастало в местных, но он ничего не мог с собой поделать: ему необходимо было попасть на Озёрную. Мужиков, грозно смотревших на него с заледеневших тропинок, Степан Фёдорович просить о помощи боялся и даже прибавлял газу, чтобы тяжёлые взгляды поскорее прекратили на нём висеть. Домрачёв злился на этих мужиков, но ещё больше злился на себя за хроническую нерешительность.