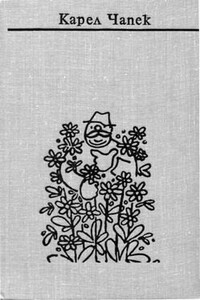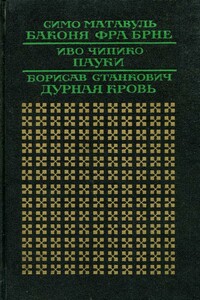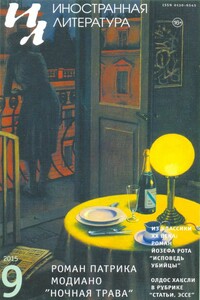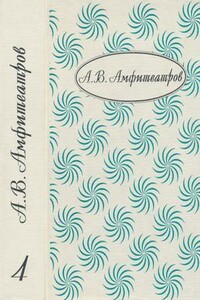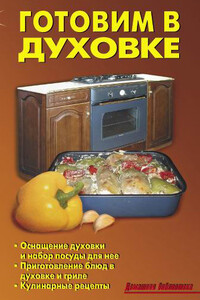1
Я не слышал, чтобы кто-нибудь называл ее иначе, чем Пупи[1], — ни муж, ни те двое, что стали их друзьями. Похоже, я был немного влюблен в нее (может, это и покажется странным в моем возрасте), потому что меня возмущало это имя. Оно совершенно не подходило такому юному и открытому существу — слишком открытому; она была в возрасте доверчивости, в то время как я — в возрасте цинизма. «Старушка Пупи» — я даже слышал, что так называл ее старший из двух художников по интерьеру, знавший ее не дольше, чем я. Такое прозвище скорее подошло бы какой-нибудь расплывшейся неряшливой женщине среднего возраста, которая пьет несколько больше, чем надо, и которую можно обвести вокруг пальца, как слепую — а тем двоим и нужна была слепая. Однажды я спросил у девушки ее настоящее имя, но она ответила только: «Все зовут меня Пупи»; сказала так, как если бы хотела навсегда покончить с этим. Я побоялся показаться слишком педантичным, продолжи я расспросы, — может, даже слишком старомодным, — так что, хотя у меня и возникает неприятное чувство всякий раз, когда я пишу это имя, она так и останется Пупи — у меня нет другого.
Уже больше месяца я жил в Антибе, работая над своей книгой — биографией графа Рочестера[2], поэта XVII в., — когда прибыли Пупи и ее муж. Я приехал в конце курортного сезона в маленький неказистый отель, расположенный вблизи моря недалеко от крепостных рвов, и мог наблюдать, как уходит сезон вместе с листвой на бульваре Генерала Леклерка. Сначала, даже до того, как деревья стали сбрасывать листья, потянулись домой иностранные автомобили. Несколькими неделями раньше между морем и площадью Де Голля, куда я ходил ежедневно за английскими газетами, я насчитывал четырнадцать стран, включая Марокко, Турцию, Швецию и Люксембург. Теперь же все иностранные номера исчезли, за исключением бельгийцев, немцев, одного случайного англичанина и, конечно, вездесущих номеров государства Монако. Холодная погода наступила рано, а Антиб ловит лишь утреннее солнце; тепла хватало для завтрака на террасе, но во время ланча безопаснее было находиться в помещении, иначе пить кофе пришлось бы в тени. На террасе всегда оставался продрогший и одинокий алжирец; он наклонялся над крепостными рвами и высматривал что-то, возможно, охраняя собственную безопасность.
Это было мое излюбленное время года, когда Жуан-ле-Пен становится запущенным, как закрытая увеселительная ярмарка с Луна-парком, заколоченным досками, и табличками с надписью Fermeture Annuelle[3] на ресторанах «Пам-Пам» и «Максим», а Международные Любительские Конкурсы Стриптиза на Вье-Коломбер прекращаются до следующего сезона. Тогда Антиб принимает свой естественный вид — маленький провинциальный городишко с рестораном «Оберж де Прованс», полным местной публики, и старики сидят, попивая пиво или аперитив в glacier[4] на площади Де Голля. Маленький сад, который окружает крепостные рвы, выглядит немного печальным со своими коренастыми крепкими пальмами, изогнувшими коричневые ветки; солнце по утрам светит без блеска, и только редкие белые паруса плавно скользят по пустынному морю.
Можете быть уверены, что англичане задерживаются осенью на юге дольше других. Мы слепо верим в южное солнце и чрезвычайно удивляемся, когда ледяной ветер начинает дуть над Средиземным морем. Тогда возникают перебранки с хозяином отеля по поводу отопления на третьем этаже, а кафель обжигает ноги холодом. Для человека, достигшего возраста, когда все, что ему нужно — глоток хорошего вина, кусочек хорошего сыра и немного работы, осень — это лучший из сезонов. Я помню, как меня возмутило прибытие художников по интерьеру именно в то время, когда я рассчитывал остаться единственным иностранцем; я молился, чтобы они оказались перелетными птичками. Они появились перед ланчем в ярко-красном «спрайте» — автомобиле, явно легкомысленном для их возраста, — они были в элегантной спортивной одежде, более подходящей для весеннего времени на мысе Кап д'Антиб. Старшему было под пятьдесят, и его седые локоны над ушами были слишком одинаковыми, чтобы быть натуральными; младшему было за тридцать, он был таким же брюнетом, как его спутник — седым. Я узнал, что их зовут Стивен и Тони, даже раньше, чем они подошли к конторке, поскольку они обладали звонкими, пронзительными, хотя и деланными, голосами; неестественными и поверхностными были также их взгляды, которые быстро обнаружили меня — я сидел на террасе с бутылкой ришара — и, отметив, что я не представляю для них интереса, скользнули мимо. Эти двое не были невежливы — просто они были сосредоточены в основном друг на друге, хотя, возможно, и не слишком глубоко, как пара, женатая уже несколько лет.
Вскоре я очень много узнал о них. Они сняли смежные комнаты в том же коридоре, что и я; правда, сомневаюсь, часто ли обе комнаты были заняты, поскольку вечерами, ложась спать, я нередко слышал их голоса то из одной комнаты, то из другой. Не кажусь ли я слишком любопытным? Но должен сказать в свою защиту, что участники этой маленькой печальной комедии вынудили меня стать ее свидетелем. Балкон, на котором я каждое утро работал над биографией графа Рочестера, нависал над террасой, где художники по интерьеру пили свой кофе, и их пронзительные, четкие голоса доносились до меня, даже когда они занимали столик вне поля моего зрения. Я не хотел их слышать, я хотел работать. В этот момент меня занимали отношения графа Рочестера с актрисой миссис Барри