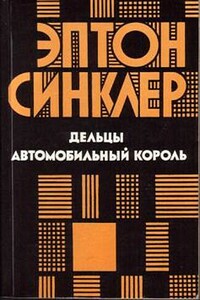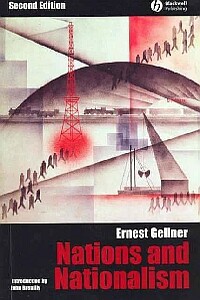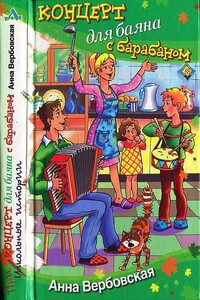У польского писателя Станислава Ежи Леца есть изречение: «Каждый век имеет свое средневековье». Продолжим — и свой Ренессанс. Однако в двадцатом веке Ренессанс предшествовал средневековью, ибо революции девятьсот пятого и семнадцатого годов нарушили историческую последовательность событий и, всколыхнув Бог знает какие бездны, вынесли на поверхность бессчетное количество талантов. Сколько великих и щедрых писателей, художников, музыкантов, артистов вышло из недр революции, чтобы немного позже ею же быть поверженными в пропасть!
Русский Ренессанс XX века едва ли не в первую очередь коснулся евреев. Ощутив себя равноправными, они со всей силой природной одаренности истово ушли в работу. Всему миру стали известны имена Мандельштама и Шагала, Бабеля и Лисицкого, Оренбурга и многих-многих других.
Одним из чудес, вызванных революцией, стал и первый в мире Государственный еврейский театр, открывшийся в 1919 году в Петрограде.
Михоэлс писал, вспоминая то время: «Мы бродили по просторным, холодным, полупустым коридорам, и не верилось, что с молниеносной быстротой спаяемся в одну семью, которая дышит одним желанием. Но это свершилось.
На улицах еще бушевала буря революции.
И человеческие глаза и слишком человеческие души испуганно и растерянно метались в хаосе разрушения и суете становления… И в это самое время, когда миры трещали, гибли, заменялись новыми мирами, случилось одно, быть может, маленькое, но для нас, евреев, великое чудо — родился Еврейский театр».
Первый в истории Государственный еврейский театр говорил на языке идиш. На языке И.-Л. Переца и Шолом-Алейхема, на языке героев восстаний гетто и партизанских лесов. Именно благодаря ему, доступному основной массе евреев России, Еврейский театр пользовался небывалой популярностью и любовью.
Почти двадцать лет мой отец Соломон Михоэлс возглавлял этот театр. Он был душой, мозгом, нервом еврейской культуры России в сложную, мрачную эпоху средневековья двадцатого столетия.
Я хочу рассказать о Михоэлсе-человеке, о том Михоэлсе, каким он был дома и каким его мало кто знал. Однако жизни вне театра — до определенной поры — ни у него, ни, соответственно, у нас не было. Поэтому даже самые первые мои воспоминания связаны с театром.
— Что? Вызывают на репетицию? Сейчас иду!
И отец передает меня на руки маме. Я, конечно, реву.
Впрочем, как всегда при разлуках с ним.
Папа стоит возле голландской печки, занимающей основную часть нашей семиметровой клетушки. Помню поворот головы и его голос, когда он откликается на зов.
Позже я узнала магическое слово репетиция. Оно действовало безотказно, я соглашалась его отпускать.
Без этого слова слезам не было конца.
И еще.
Мы с папой около дома на улице Станкевича. На нем светлая фуражка, он держит оглобли моей коляски — немыслимого сооружения на двух высоченных колесах. Его кто-то окликает, он оборачивается, отпускает оглобли, коляска опрокидывается, и я лечу голо — вой вниз…
Это, пожалуй, самые ранние воспоминания, которые мне удается извлечь из памяти. И дальнейшая жизнь с папой возникает обрывками, кусочками, часто не связанными между собой. Что и говорить, не было у нас беззаботного розового детства с усадьбами, гувернантками, бархатными штанишками, добрыми нянями, пестрыми клумбами и мамой, поющей романсы под аплодисменты восхищенных гостей. Была тяжелая жизнь, полная нужды и лишений, горя и разлук с неповторимым и единственным, любимым и ни на кого не похожим отцом, жизнь, которую я не променяла бы ни на какую другую.
Я думаю о том, как мало времени, в сущности, мы провели вместе. Произошло это по целому ряду причин, о которых я в дальнейшем расскажу. Об одной из них, впрочем, упомяну сразу — я рассказываю о жизни отца, а дети, как известно, до определенного возраста в жизни родителей не участвуют. К тому же папа отсутствовал по нескольку месяцев в году, разъезжая с театром, а мы с мамой и сестрой всегда оставались в Москве.
Не дошли до нас и семейные легенды, любовно сохраняемые бабушками. Обе бабушки умерли задолго до нашего рождения. И очень рано, когда мы были маленькими, умерла мама. Дневников я никогда не вела, а если бы и вела, вряд ли их удалось бы сберечь среди обысков и облав, которые выпали на нашу юность. Отец же никогда не успевал вести сколько-нибудь упорядоченные записи.
Каким-то образом уцелели воспоминания папиного брата-близнеца Хаима Вовси, или Ефейки, как мы его звали. Из этих воспоминаний и многочисленных папиных рассказов у меня сложились представления о их детстве, о чем я и расскажу в следующей главе.