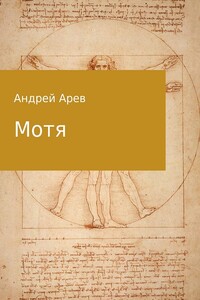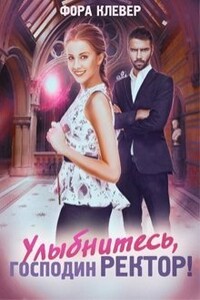Моте было холодно. Стоять одной на февральском ветру в коричневой школьной форме с черным фартуком, белыми манжетами и воротничком, белых гольфах и туфельках, не зная, куда идти, потому что ты умерла, кровь твоя свернулась и уже не сочится из дырки в виске — стоять так не только холодно, а еще и тоскливо. Мотя раскачивается и напевает, чуть шевеля сиреневыми губами: «… по головке гладит, черствый пряничек дает…». Её похоронили неправильно, не отрубив кистей рук, ступней и не отделив головы, поэтому ночью, почувствовав тяжесть на груди, Мотя выкопалась, плача и размазывая слезы, смешанные с землей, и вытирая их красным шелковым галстуком. Теперь она стояла у стеклянной витрины «Лакомки» и смотрела на красивую выпечку, любуясь и не понимая, почему ей не хочется сладкого. Что-то тяжелое медленно толкалось внутри, в правом боку, заставляя двигаться, двигаться не хотелось, а хотелось заползти куда-нибудь, сжать ноги вместе до боли, свернуться калачиком и оцепенеть, не обращая внимания на пропитанное мочой и кровью белье, схватившееся на морозе коркой…
Когда холодно, за 30, и такая погода держится недели две — время начинает замерзать. Сначала вымерзает лишняя влага из настоящего, и дни, плотно сбитые, как мячи для пионербола, пугающе быстро, с легким хлопком меняют друг друга. Потом замерзает прошлое, сначала створаживается в подобие холодца, который вполне себе можно резать ножом, а затем становится более плотным, как рахат-лукум, и таким же белесым. Дни, не насыщенные событиями, замерзают в лед, прозрачный или цвета бульона. И тогда их можно увидеть сложенными в сенях, вместе с намороженными плитками молока, пельменями, колобками фарша и квашеной капустой. Конторские приносят его на работу, и часов в 10 утра раздается клич: Девки, айдате чай с яблоками пить!
Задастые пятидесятилетние «девки» крошат в чай яблоки, кусочки замороженного прошлого, достают домашнее варенье из лесной клубники — и сутки их удлиняются на пару часов.… А еще в лед замерзают дни, не наполненные ничем, кроме какого-либо чувства — счастья или там, любви. Получается такой радужный лед, его можно наколоть на этакие небольшие монпансьешки, и рассасывать весь день. Челюсть немеет, во рту остается неуловимое послевкусие — невозможно понять, чем ты тогда был так счастлив или, вот, любил же — а сейчас что? Но все равно, приятно — как после хорошего, красивого сна, который не можешь вспомнить, и пока вспоминаешь — все исчезает.
Мотя жила в маленьком городке, настолько маленьком, что на окраине он уверенно превращался в деревню — совсем недалеко от центра по утрам орали петухи, пахло хлевом, а зимой можно было видеть, как трактор затаскивает в чей-то двор смётанный на березу стог сена. Население окрестностей Эмска состояло, в основном, из скроенных по одному лекалу сухоньких мужичков, лысоватых и рыжеусых, одетых вечно в теплые клетчатые рубахи, застиранные джинсы-варёнки и такие же жилеты, и здоровенных теток, которые были выше своих мужей на голову, и, кажется, так и родились в этих своих серых плащах и всепогодных галошах на босу ногу. Летом окраина торговала на городском рыночке сепарированными сливками, а зимой — копченым салом, хотя самые распространенные местные фамилии были как-то связаны с едой, вернее, с ее отсутствием: Худяков, Постовалов, Художитков, Баландин.
Жительствовала Мотя в кирпичной двухэтажке, забитой как барк капитана Хёрда грузом мороженого мяса и картошкой; мясо на балконах нагло тырили синички, а картошка в самодельных подвалах сморщенными кракенами тянула свои щупальца к свету. Дом вообще был похож почему-то на торговое судно, застрявшее в водорослевых покосах Саргассова моря, и давно переставшее дрейфовать. Команда постепенно спилась, обзавелась семьями, переженившись на местных русалках, которые быстро обабились, развешали из больших эмалированных тазов свежевыстиранные простыни и пододеяльники, и наплодили племя младое, незнакомое, сидевшее по подъездам с «Балканкой» и «Ягой» — Ангка в их глазах не то, чтобы не горела, а просто не была оплодотворена.
Старшее же поколение разными темпами уверенно двигалось к смерти — чаще всего, она приходила в виде сковородки жареных грибов, съеденных на ночь, и наутро самому человеку было не ясно, жив он или прикалывается, уходя серым осенним утром на работу в свою контору или на завод; на самом же деле, окружающие видели очередной никчемный труп, а мозг, обманутый грибами, плавно входил в русло посмертных мытарств, — и начиналось: какая-нибудь бухша никак не могла понять, почему она не может сдать отчет, а ведь уже конец месяца, почему на нее орет начальник, почему сын-оболтус снова проспал первый урок, а еще и месячные, и все это одновременно. Или там, знаешь, миома матки, а еще невыплата по кредиту и отправляют на маммографию в город с подозрением на онкологию. Такова была замысловатая осенняя смерть; еще была белая и искристая зимняя, наполненная запахами весенняя, и скучная, с мухами — летняя.
Мотя мало с кем общалась во дворе, разве что с дворником и его детьми. Дворник-татарин Фарид, который обычно молча сметал в кучу листья, либо скалывал гиреем лед, и приветствовал знакомых лишь кивая, к Моте почему-то чувствовал особое расположение, всегда улыбался при встрече и говорил, снимая шапку: здравствуй, девочка! Остальное время он мычал про себя какую-то песню, иногда останавливаясь чтобы, воздев указательный палец, произнести какое-нибудь дацзыбао на своём смешанном русско-татарском наречии, например: Мечетта никакой урыс сюзе булмасэн