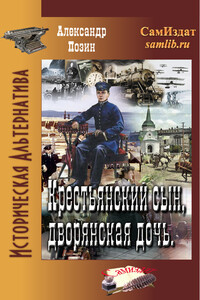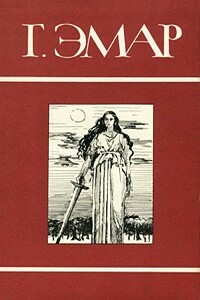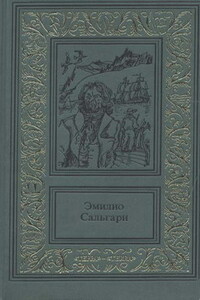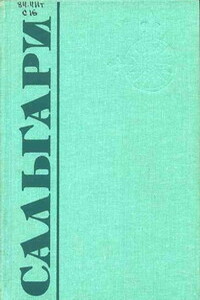Вы слышали когда-нибудь о боцмане Катраме?.. Не слыхали, нет?.. Тогда я расскажу вам об этом старом морском волке, с которым избороздил в морях не одну тысячу миль.
О прошлом его мне, по правде говоря, ничего не известно — даже имени его настоящего никто на судне не знал. Не знали мы и в каком городе или в какой деревушке он родился, если боцман наш вообще мог родиться не в морской пучине, а на земле. Но одно могу сказать точно: это был превосходный моряк, один из тех мореходов старого закала, которые отдали морскому делу всю жизнь и разбирались в нем досконально.
Сколько лет было боцману Катраму? Этого тоже никто не знал. Даже те, кто знакомы были с ним очень давно, даже и они помнили боцмана уже старым. Борода у него была совсем седая, маленькие колючие глазки сурово поблескивали из-под набрякших век, а морщинистое, продубленное всеми морскими ветрами лицо напоминало древний пергамент.
Но годы не согнули его. Нет, они еще не сломили этого старого морского волка! Правда, двигался он по палубе как-то боком, наискосок, точно морской краб, но держался на ногах еще крепко, а силой в плечах не уступал молодым.
Ну и медведище был этот боцман Катрам! Суровый, как железо, молчаливый, как скала, он внушал уважение всем нашим матросам, которые с почтительной опаской относились к нему. С морской стихией он был на «ты», и чувствовал себя в ней, как дома. Ни один самый страшный шторм не мог вывести его из равновесия, и чем больше во время бури бледнели лица других моряков, тем спокойнее и веселее делалась его морщинистая физиономия.
Многое испытавший и много переживший за свою долгую морскую жизнь, боцман не страшился уже на свете ничего, но был очень суеверен, как и все старые моряки. Он верил в Летучего голландца, в морского царя, в коварных сирен, что завлекают мореходов в пучину своим сладкоголосым пением, верил в заклятия и заговоры, во всяких духов и привидения, хотя рассказывать об этом и не любил. Молчаливость была его второй натурой — никакими силами невозможно было его разговорить. Каждое слово приходилось клещами вытаскивать, а чаще он вообще обходился без слов, уповая лишь на жесты и мимику.
Шумных компаний и пустых разговоров боцман не терпел, предпочитая им философское одиночество. А его темная и тесная боцманская, похожая на нору, подобно бочке Диогена, служила ему убежищем. Казалось он просто не может жить без этого запаха канатной пеньки и смолы, которыми вся она насквозь пропахла. Поэтому, наверное, к нему и приклеилось его вечное прозвище Катрам[1], давно заменившее его настоящее имя.
Никто никогда не видел, чтобы боцман сходил на берег в порту — к суше он испытывал какую-то странную неприязнь, точно и знать не хотел о ее существовании. Как только судно приближалось к берегу, боцман делался вялым, мрачнел и вскоре исчезал в своей темной каморке, из которой его уже невозможно было выкурить. Пытались некоторые, но Катрам впадал в такой гнев, так яростно сжимал свои крутые кулачища, что любой приставала тут же испуганно замолкал, поспешно ретируясь от греха подальше.
И во все время стоянки, передав свои полномочия одному из старших матросов, боцман Катрам даже не появлялся на палубе, а забившись в боцманской, отдыхал на свой лад. Часами хрупал он своими желтыми, как у дикого кабана, но еще крепкими зубами сухари и с видимым удовольствием потягивал из бутылки легкое кипрское, единственное вино, которое он признавал. А в перерывах покуривал свою трубку, такую же старую и заскорузлую, как и он сам.
Но стоило лишь загреметь в клюзах якорным цепям, как только начинали хлопать и распускаться паруса на реях, его седая голова со всклокоченной бородой осторожно появлялась из люка. А убедившись, что корабль действительно готов выйти в открытое море, он тут же появлялся весь целиком и немедленно приступал к своим обязанностям.
И сразу делался другим человеком. Если, приближаясь к земле, боцман, можно сказать, старел лет на двадцать, то в тот момент, когда корабль брал курс в открытое море, сразу настолько же молодел. Матросы шутили, что он, наверное, и родился-то в море от сирены и какого-нибудь морского духа — настолько невозможно было представить его живущим на земле.
Откуда взялась у боцмана Катрама эта странная неприязнь, которую он питал к суше? Никто не знал, и я не больше других, хотя не раз подступался к нему с расспросами. Но он в ответ лишь мрачно смотрел на меня, ворчал что-то глухо себе под нос недовольный, и под первым попавшимся предлогом норовил побыстрее скрыться.
Впрочем, служака он был отменный, в морском деле не знал себе равных, за дисциплиной и порядком на борту строжайше следил. И зная это, наш капитан уважал и любил его, прощая старому морскому волку все эти странности. Что же касается молодых матросов, те не очень-то осмеливались приставать к нему, опасаясь тяжелого боцманского кулака, с которым некоторые были знакомы по опыту.
Но однажды, когда мы шли из Красного моря в Индию, с боцманом случилось нечто настолько из ряда вон выходящее, что событие это произвело форменный переполох на борту. Катрам был найден мертвецки пьяным на полу в углу своей боцманской. Как же этот медведь, который к тому же пил всегда только легкое кипрское, которого еще никто не видел шатающимся, как же он мог набраться до такой степени, что, забыв морской устав и свои обязанности на борту, валялся на полу, как последний пьянчуга?