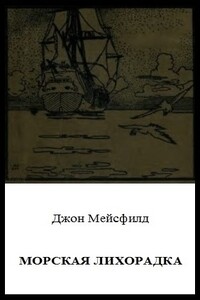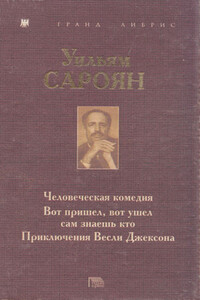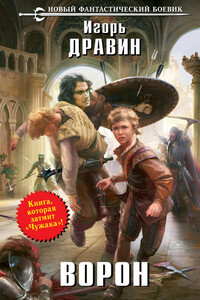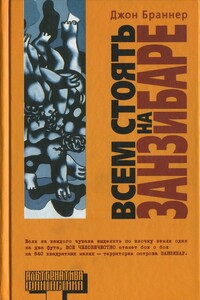Перевел с английского П. Охрименко
НОЧАМИ, зимними ночами, ночами, когда воет ветер и бушует шторм, — в такие моменты особенно остро чувствую я всю прелесть жизни на суше. Ага, говорю я, ты, злюка-ветер, ты можешь дуть, покуда у тебя не лопнут щеки, а мне хоть бы что! Потом я прислушиваюсь, как шумят и качаются вязы, как скрипят половицы в доме, и, ага, говорю я, вы, сорванцы, можете скрипеть и трещать, а я спокойно буду лежать в постели до рассвета.
Большое утешение нахожу я на суше, когда ревет буря. Но в тихую погоду, когда моросит дождь, когда под ногами грязь, мир окрашен в цвет утонувшей крысы, на память приходят другие дни, дни полные буйной жизни и приключений; и не глупец ли я был, говорю я, что стал жить на суше, что примирился с той жизнью, какой сейчас живу? Да, действительно, я был глупец, что всегда так дурно думал о море. Если бы сейчас я был на корабле, мне не пришлось бы делать то, что делаю я. Если бы держался моря, я был бы теперь вторым помощником капитана, а может, и первым. Не сидел бы согнувшись за конторкой, а стоял бы на мостике вместе с рулевым и гнал бы корабль вперед пятнадцатиузловым ходом.
Именно в такие минуты вспоминаю я лучшие дни, волнующие дни, дни напряженной, горячей жизни. Один из них особенно живо встает в памяти, один из тысячи, как день необычайной радости.
Мы были в море, у берегов Южной Америки, и мчались на юг, как олень. В последние сутки ветер постепенно крепчал, и весь день за кормой нашего судна бурлила белая пена, словно в кильватере военного корабля. За сутки мы прошли 270 миль, и это было чудесно, хотя, конечно, многие суда делают иногда и побольше. Но для нас это была исключительная удача. Ветер дул чуть сбоку, что особенно благоприятствовало нашему судну, и дул с необычайной силой. За нашим капитаном установилась репутация «бесшабашного», и в данном случае он гнал корабль как никогда.
В этот чудесный день мы не плыли, а летели, то взлетая вверх, то бросаясь вниз, в пропасть, дикими прыжками мчась вперед в бешеном порыве. Ветер ревел на реях и бушевал в вантах, и паруса пузатились до того, что были тверды, как железо. Мы мчались по морю огромными прыжками — других слов я не нахожу. Наше судно, казалось, перелетало с одной ревущей волны на другую, перемахивая через зияющую пропасть между ними. Мне приходилось плавать на быстроходном паровом судне, на турбоэлектроходе, идущем со скоростью более двадцати узлов, но я никогда не испытывал такого чувства быстроты. На этом небольшом старом паруснике радость от скорости его хода была такова, что мы громко смеялись и кричали в восторге.
Шум ревущего ветра и непрерывное кляк-кляк-кляк блоков талей, рев огромных волн, догоняющих одна другую, скрип и звон каждого блока и бруса звучали для нас словно танцевальная музыка. Нам казалось, что мы мчимся со скоростью девяносто миль в час. Вода за кормой бешено бурлила, вздымаясь белой пеной. Мы бегали взад и вперед, то подтягивая здесь, то отпуская там, пока, казалось, что мы вот-вот свалимся с ног. Но, работая, мы громко пели и кричали. В нас будто вселился дух ветра. Хотелось плясать или начинать кулачный бой. Мы были словно обезумевшие, в каком-то невыразимом экстазе, и уже начинали думать, что наш корабль оторвется от воды и устремится к небесам, как крылатый бог. Над носом корабля взлетали каскады брызг, искрясь на солнце. Передние паруса стали мокры до последней нитки. Водопротоки превратились в ручьи, в водопады.
Припоминаю также, день был такой, что вселял в сердце радость, — ясный, солнечный, величественный!.. Солнце ярко светило в небе. Небо было невыразимой голубизны. Мы мчались вперед по чудесному морю, которое заставляло нас петь. Далеко-далеко, насколько хватал глаз, нас окружало море, сверкающее и не спокойное. Синее оно было, и зеленое, и ослепительной яркости на солнце. Оно вздымалось огромными, словно горы, валами.
Волны разбивались с ревом и разлетались пеной. Снова вздымались, налетая одна на другую, и снова превращались в пену. Ритм, мелодия, музыка были в этих взлетах и падениях волн. В душе нарастало такое чувство, что хотелось броситься в эти волны, принести себя в жертву чудесной стихии. Хотелось слиться с морем, быть его неотъемлемой частицей, вечно жить с ним. Это было и чудо, и величие, и ужас. И необычайная, возвышенная радость наполняла всю душу при виде этой красоты.
И на другой день, спустя сутки, когда сидели за обедом внизу, мы чувствовали, что наш безумный корабль делает еще более отчаянные прыжки, перескакивая через еще более грозные волны, вздрагивая и торжествуя каждой частицей своего существа. Казалось, он был наполнен какой-то беспокойной, величественной, огненной жизнью. Мы забывали, что он сам — произведение рук человека. Мы забывали, что мы сами — люди. Он казался живым, бессмертным, ужасающим. Мы были его слугами, невольниками. Мы были звездной пылью, несущейся в хвосте кометы. Мы звонили в тарелки, сидя за столом, не было предела нашей радости. Мы пели, кричали и называли свой корабль величием и славой всех морей.