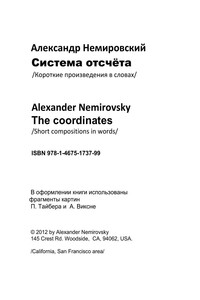Джойс Кэри
Молодость бывает только раз
Пер. - Л.Беспалова.
Ярмарка была в разгаре - шел пятый час жаркого сентябрьского дня, а пекло все сильнее. На рыночной площади надрывались кто во что горазд двадцать каруселей, высоко в воздухе густым облаком желтого дыма стояла пыль - казалось, это курится разгоряченная, возбужденная толпа. В ней, как в прикрытом валежником костре, то и дело что-то ворошилось. С первого взгляда толпа представлялась темной, монолитной массой - так плотно деревенские жители в выходных костюмах сбились в кучу перед ларьками. Но если всмотреться, в массе наблюдалось клокотание и так же, как из подернутого пеплом костра вдруг выбивается язык пламени, из толпы выбивалась компания девиц или парней. Эти перекрикивающиеся, пересмеивающиеся юнцы там и сям прокладывали себе дорогу сквозь толпу, выбирая для прорыва наиболее трудные, неприступные участки.
И дородные матери семейств, и запарившиеся батраки с невозмутимыми лицами уступали им дорогу. Даже у церкви, на самой окраине ярмарки, уже за рыночным крестом, в этом освященном традицией тихом уголке, молодежь, словно сговорившись, никак не стесняли, признавая ее право вволю погулять на ярмарке.
В проулке между церковью и кладбищем, на чьей низкой ограде примостились задерганные родители и уморившиеся старики, два перепачканных мальчугана дули что есть моча в свистульки; по тому, как нахально они носились по ногам стариков, как с разбегу врезались им в колени, видно было, что безобразничают они вполне сознательно. И бабки, и деды, примостившиеся на кладбищенской ограде, покорно поглядывали на шалунов и поспешно, неуклюже, но безропотно поджимали оттоптанные ноги. Цыганка, кормившая подле паперти своего ребенка, приложив его к длинной прорези в черном корсаже, не обращала на них внимания. Когда же шалуны наконец добрались и до цыганки, она лишь ожгла их глазами, но не сказала ни слова, только локтем прикрыла головку ребенка и проводила шалунов бешеным взглядом. Ее цыганской злобе против всего мира в этот день пришлось смириться с ударом, нанесенным детьми.
Когда в эту тихую заводь ворвались три девчонки лет по шестнадцати, в низко вырезанных платьях, с ярко накрашенными губами и высокими башнеобразными прическами, сплошь в завитушках на манер индийских храмов, все лица словно по команде повернулись к ним.
Девчонки бежали гуськом, все время озираясь, будто их преследует погоня. На всех трех красовались розовые бумажные шапки; на их тульях было написано крупными черными буквами: "Не робей, целуй скорей". А у замыкавшей шествие белобрысой девчонки, почти подростка, курносенькой, с толстыми, оттопыренными губами, поперек вздернутых вверх, круглых как крикетные шары грудей шла через плечо к талии золотая надпись: "Полюби меня".
В промежутках между взрывами хохота девчонки говорили все разом; в своем стремительном броске они налетели на пожилого батрака в коричневом твидовом пиджаке и грубых башмаках, устраивавшего крохотную девчушку поудобнее над канавой, и чуть не упали. Он поспешно отодвинулся, и, хотя девицы и взглядом его не удостоили, прорыв их был приостановлен: внезапно, словно их всех враз осенила одна и та же мысль, они плюхнулись на ограду и давай обмахиваться и отдуваться. "Ой как жарко", "Ой как пить хочу", стенали они.
Они охорашивались, как вывалявшиеся в пыли воробьи, и перекрикивались друг с другом, словно боялись, что их не услышат. Они давали представление и сейчас, небрежно скользнув по зрителям дерзкими глазами, изобразили высокомерное удивление.
- Ой, куда же это нас занесло? - заверещала белобрысенькая.
Троица дико прыснула и сдвинулась еще теснее. Старики, цыганка, сидевшие рядком утомленные женщины средних лет, батрак, терпеливо дожидавшийся, пока девчушка сделает свои дела, взирали на них безотрывно, словно загипнотизированные. Так они смотрели бы на охваченный огнем дом или затопленный луг.
Белобрысенькая куда-то метнулась, возвратилась с тремя большими картонными стаканами мороженого, и вся-троица принялась отколупывать крохотные кусочки мороженого бережными и точными движениями деревянных палочек. Этим несоответствием между точными движениями рук и общей взбудораженностью - они извивались, вертелись, поминутно прижимались друг к другу, в такт каждому слову кивали, качали головами - девчонки напоминали разрезвившихся котят или щенят.
Беседа велась громко - это входило в задачи представления, имевшего целью возмутить, сразить, унизить. Заводила в их компании - плотная чернявая девица, почти без шеи, с голыми, кирпично-красными от загара ногами - рассказывала:
- А она и скажи: "Мне он даром не нужен, бери его себе". А я ей: "И возьму". Нет, это надо же, если уж ты гуляешь с парнем...
Подруги так пылко ее поддержали, что заглушили конец рассказа соображениями и примерами из жизни.
Тут откуда ни возьмись появились четверо парней и двинулись по проулку. Первый - в кричащем синем костюме, с красной розой в петлице, в лихо сбитом на правый глаз бумажном полицейском шлеме и с перышком в правой руке - вихлялся на ходу всем телом. Он мотал головой, дергал локтями, раскидывал ноги в стороны; лицо его сияло торжеством. Такое лицо бывает у героя дня, когда после приемов, приветствий, флагов, депутаций, банкета он спускается на улицу и идет сквозь ряды почитателей, разгоряченный всеобщим поклонением и шампанским, и на лице его помимо воли написано выражение простодушного самодовольства, которое откровенно говорит: "Да, я великий человек, из героев герой! Вот здорово-то!" И тут ты замечаешь, что он презрел всякую осторожность всякую осмотрительность, что в мыслях у него одно: какие вокруг славные, какие хорошие, какие добрые люди и как здорово, в сущности, устроен наш мир, раз можно не стесняться своих самых святых, самых благородных чувств и раз герой у нас может, не стесняясь, держать себя героем.