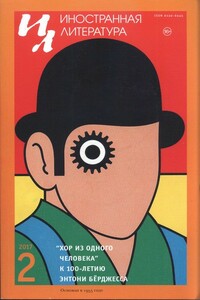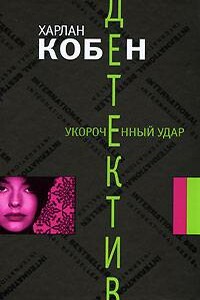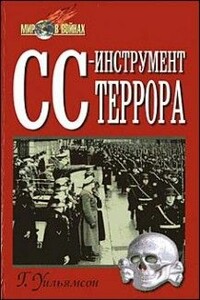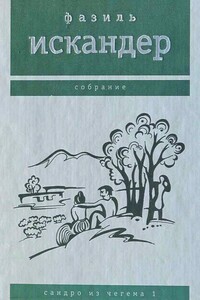Я говорю:
— Ты совершаешь ошибку!
Она отвечает:
— Захочу и буду смеяться!
— Повторяю, если бы я был на твоем месте…
— Какое самомнение! Да кто ты такой, чтобы указывать мне, как поступить?
Она прекрасно знала, что я никогда не «указываю», однако намного легче притворяться, чем говорить искренне.
Чуть погодя хлопнула входная дверь.
Так она уходила от меня навсегда.
Еще через некоторое время я наблюдал, прижавшись щекой к пыльной и поблекшей бархатной занавеске, как она спускается по бульвару неловким мальчишеским шагом.
На виллу она больше не вернулась. Я не искал с ней встречи. Я сознательно избегал ее. Некоторые ее преследовали, кому-то удавалось узнать ее в толпе и показать на нее пальцем. О ней еще долго говорили, ее часто вспоминали все, кому не лень.
Дети, а иногда и старики, пробуждают воду, бросив с моста камень, и от внезапного столкновения — которое обычно ускользает от взгляда всегда спешащего прохожего или, даже если он заметит его, тут же стирается из памяти, — водная поверхность наполняется круговой рябью, рождается еще один круг, за ним другой, немного подальше от первого, и следующий. Окружность с каждым разом становится шире, и вот уже о берег разбивается тихая волна; круг в круге, и вселенная безбрежной полнотой побеждает, наконец, крошечную бурю.
Так же уходит память, которая…
Но камень уже брошен.
1
Вилла, без сомнения, была проектом абсолютно безумного архитектора, сумевшего найти кого-то еще более сумасшедшего, чтобы воплотить задумку. По крайней мере, было ясно (во всяком случае, некоторым жителям города), что она не держится ни на чем, кроме фантазии.
История сохранила имя архитектора. Некий Уильям Сандерс выгравировал тонкими дрожащими буквами свою подпись на камне внизу стены, слева от громоздкой входной двери в викторианском стиле. Это все, что о нем известно, так как он исчез в тот же день, когда были переданы ключи — церемония, на которой он лично не присутствовал. Поддерживая непроверенные слухи, кто-то утверждает (и им нельзя отказать в логике), будто архитектор не любит выходить на люди, поэтому именно такое выдающееся здание подчеркивало его существование. Другие же заявляют (но, может, нам стоит уточнить, что довольно часто реальность искажается воображением и в нее переносятся стереотипные сюжеты из фильмов ужасов), будто он замуровал себя в одном из потайных уголков огромной постройки, возведя стены собственной могилы.
Однако, кем бы ни был этот архитектор (вероятно, призрак), его ярко характеризуют имена тех, кто стал его клиентами. Среди них называют многих из голливудских актеров, начиная от Теды Бара и заканчивая Рамоном Новарро, — счастливчиков, которые своим присутствием некоторое время освещали это вычурное строение. Но невозможно напасть на след первого владельца, того или той, кто имел дерзость (и огромное состояние) участвовать в медленном зарождении грандиозного монстра из шифера, черепицы и камня.
В одно и то же время вилла простирается, возвышается и изгибается — лишь противоречащими друг другу глаголами можно описать ее внешний вид, не поддающийся никакому сравнению и объединяющий в себе все стили. Необычными площадками и изломанными линиями она громоздится на самом верху Беверли-Хиллз. Со стороны фасада вилла почти полностью скрыта от любопытных взоров высокой оградой и беспорядочно рассаженными старыми деревьями. Как хрупкое напоминание о весенней поре, из сада круглый год доносится нежный аромат жимолости, а вытянувшиеся, распустившиеся и увядшие цветы достают до самых окон в мавританском стиле.
Именно отсюда, где так удобно устроилась четырехугольная зубчатая башня, — единственный элемент постройки, возвышающийся над верхушками деревьев, доступный взгляду извне и, без сомнения, несущий на себе очевидную смысловую нагрузку, — именно с высоты этой башни Джон Бэрримор[1] решил однажды «помочиться на проклятый город». Точнее, как он объяснил позже, на студии Вальтера Врангера, которые Бэрримор разглядел довольно далеко внизу, в долине, однако у него ничего не получилось (во всяком случае, из того, что я слышал), кроме слабой тоненькой струйки, прошуршавшей в ночной тишине по черепичной крыше.
Что же касается стены, которая была не выше обыкновенного забора, пока мы не переехали, своей окончательной высоты она достигла в два приема. Первый сразу же оказался недостаточным, чтобы отгородить хозяйку от любопытных, восхищенных и недоброжелательных взоров. Она никогда не позволяла распахивать ставни на первом этаже, даже после того как дом был спрятан за высокой оградой, не считая густых деревьев (хотя зимой сквозь тонкие ветви и жухлую листву любопытным и правда открывался неплохой вид). Краска на ставнях стала шелушиться, деревянная основа потрескалась. Лишь иногда длинные, пустые и темные комнаты пересекал луч света. Хозяйка установила определенные часы для открытия ставней на этаже, и каждое окно ослепили тяжелые, собирающие пыль занавески; этот грустный запах пыльного бархата возвращается ко мне всякий раз, когда я вспоминаю те десять лет, что мы прожили на вилле, чувствую раздражение от трения моей щеки о ткань в тот последний день, когда я смотрел из окна, как она спускается по бульвару.