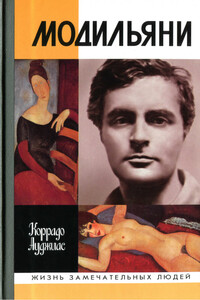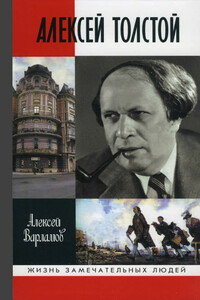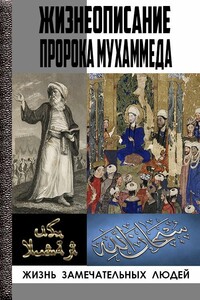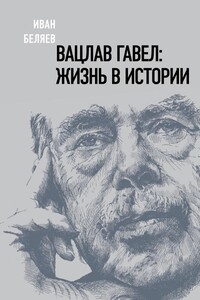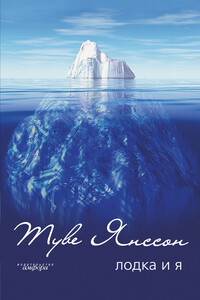Глава 1
МОДИЛЬЯНИ, МОДИ, MAUDIT
В морозный январский день 1920 года, когда Амедео Модильяни ушел из жизни, мировая бойня, ознаменовавшая начало XX века, уже два года как закончилась. Смерть молодого художника положила начало лихорадочному изучению его биографии, которая могла бы стать символом целого десятилетия — неистовой эпохи, завершившейся кризисом 1929 года на Уолл-стрит.
Отношение общества к Модильяни еще не вполне сформировалось ко времени его последней болезни, ставшей предвестницей кончины. На его похороны пришли почти все: Моисей Кислинг, Андре Сальмон, Леопольд Зборовский, Пабло Пикассо, Макс Жакоб, Блэз Сандрар, Морис Вламинк, Андре Дерен, Андре Дюнуайе де Сегон-зас. Была здесь и несчастная Симона Тиру — одна из его многочисленных отвергнутых любовниц и мать его ребенка, так и не увиденного отцом и канувшего неизвестно куда.
Что же заставило прийти сюда так много разномастной публики, в том числе и весьма именитых людей? Что сподвигло их проделать за гробом долгий путь от больницы Шарите на улице Жакоб до кладбища Пер-Лашез? Любопытство, удивление, угрызения совести, желание не отставать от других или тень истинного сожаления, присутствующая на любых похоронах? Помимо привычных для подобных событий чувств в толпе витало и не вполне осознанное понимание того, что в этом городе и в эти часы смерть итальянского художника, такого беспокойного и капризного, несчастного и блистательного, породила новую легенду в истории искусства.
Многое в его жизни казалось неясным, слабо очерченным или малозначащим. Буйные вспышки и капризы, часто оправдываемые одной только улыбкой или памятным Многим рассеянным движением руки, бесконечные выходки, смешащие или пугающие знакомых, — все это с его смертью поменяло знак и приобрело особый смысл.
Случаю было угодно, чтобы одни знали этого неоцененного при жизни художника как вежливого, хорошо воспитанного и спокойного человека, другие — как скандалиста и дебошира, чей облик и память о нем запечатлелись в прозвище «Моди». Оно было одновременно уменьшительно-ласкательным его именем и знаком судьбы, поскольку рифмовалось с maudit[1]. Миф Модильяни появился на свет в конце того рокового января и устремился шаг за шагом вслед невероятному всплеску интереса к его картинам, во много раз увеличивая их цену и переходя от причины к следствию, так что сегодня уже сложно понять, что же на самом деле стало более определяющим и значимым для истории искусства прошедшего века.
Воспоминаний о Модильяни так много, и все они так различны, что очень непросто установить, какие из них более всего похожи на правду. Возможно, все понемногу, поскольку в каждом из них маленький световой лучик выхватывает из глубины ощущений какую-то деталь, жест или слово. Один менее именитый, чем Амедео, итальянский художник по имени Ансельмо Буччи повстречал Модильяни в 1907 году, через год после его приезда в Париж. Вот как он вспоминал об этом: «Господин Бускарра из-за стойки громко окликнул его, но ответом из комнаты было молчание». И вот появляется Амедео: «По маленькой лестнице быстро спустился юноша в красном свитере велосипедиста, невысокий, веселый, с улыбкой, открывающей прекрасные зубы. Итальянец? Итальянский художник? Что ж, у молодых евреев часто встречаются классические, более того — римские — черты лица. У Модильяни они были прямо как у Антиноя».
Одна из подруг Амедео, Люния Чеховская, описывала его довольно похоже: «Я вспоминаю его шагающим по Монпарнасскому бульвару — прекраснейшего юношу в большой черной фетровой шляпе, сером бархатном костюме и красном шарфе. Из карманов выглядывают несколько карандашей, а под мышкой огромная папка для рисунков: таков Модильяни».
Молодой и дерзкий — таким он остался в любящих глазах. А вот если не противоположное, то совсем непохожее воспоминание известного художника Освальдо Личини, которое относится к осени 1917-го военного года: «Как-то вечером я сидел возле кафе «Ротонда», ожидая знакомого. Небо было пасмурным, и Париж погрузился во тьму. Я смотрел на медленно плывущие облака, в которых отражались лучи прожекторов, рыщущие в поисках «цеппелинов». В это время на тротуаре под голыми платанами я увидел юношу, очень бледного, одетого в серый бархат, без шляпы и с платком на шее. Он был похож на поэта и хулигана одновременно: во всем его облике было нечто трагическое и обреченное».
Как и в любой другой легенде, в этой правда и выдумка так тесно переплетены, что потребуется немало усилий, чтобы их разделить; причем не вполне понятно, много ли от этого будет проку. Здесь не обойтись без преувеличений и сплетен при всей их неправдоподобности, а анекдоты призваны дополнить историю, показав то, как нашего героя ощущали и оценивали современники. Только так мы можем получить если не достоверную картину, то хотя бы нечто похожее на правду, отголосок того, что происходило на самом деле.