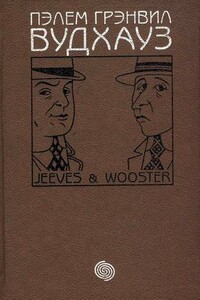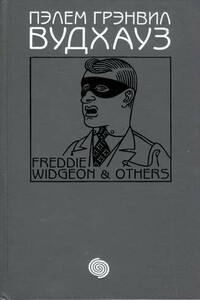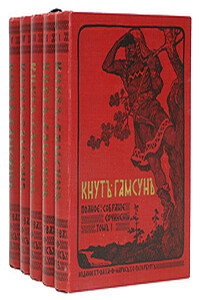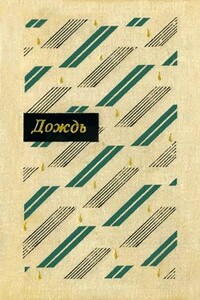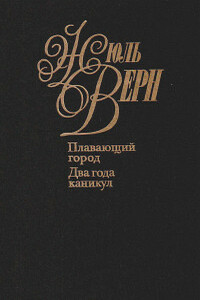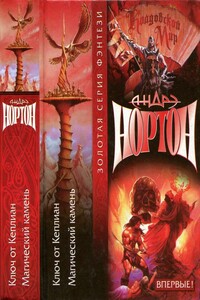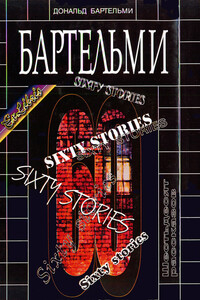Однажды Доналда Бартелми (1931-1989) спросили, как он относится к критическим отзывам на свои работы, и он ответил: «О, я думаю, критикам хочется, чтобы я ушел и прекратил делать то, что делаю». К нашему большому читательскому счастью, никуда он не ушел, издал четыре романа, одну детскую книжку, немалое количество прозы покороче и, если бы не рак горла, сведший его в могилу в 58 лет, мог бы еще быть среди нас, кто знает.
В начале 1960-х Бартелми вообще довольно много размышлял о природе критического пренебрежения — и считал его полезным: одна из «традиционных обязанностей нас как публики — пренебрегать художниками, писателями, всевозможными творцами». Так, полагал он, «создается Голодная Оппозиция, а тем самым — возможность критики нашей культуры». Применительно к нему самому, говорил он, «пренебрежение происходит на должном уровне». Что в то время было неудивительно: человека, подрывавшего линейные методы повествования традиционной литературы, подкрепленной массовым обожанием «новых реалистов» вроде Реймонда Карвера, «новых журналистов» вроде Тома Вулфа или «новых классиков» вроде Нормана Мейлера, гораздо проще не замечать вообще, чем изрекать о них глупости или гадости.
Об американской литературе второй половины XX века написаны тома, но нас в первую очередь интересует «соглашательский» аспект ее «основного течения». С 60-х годов начиная, этот стержень ее развивался в согласии с историческим ревизионизмом: писатели как бы старались не замечать бурных социальных, политических и культурных событий, предпочитали уважительно держаться узкого предметно-изобразительного канона бытописательства, делая вид, что ни Вьетнама, ни сексуальной революции, ни движений за гражданские права вообще или права женщин в частности, ни абстрактного искусства или поп-арта не происходит. Любые попытки ставить под сомнение «авторитет» — власти, традиции, нормы — мейнстримная критика старательно замалчивала. Подрывные же элементы могли быть достаточно громкими в публичном пространстве, но для литературно-критических хранителей спокойных устоев их словно бы не существовало.
А Бартелми и громок-то, в общем, не был — он тихо работал в первую очередь с языком, старался вывести его из-под диктата правил, постоянно освежать его, не давать ему загрязняться политическим и социальным и кооптироваться коммерческим. Недаром он любил цитировать своего преподавателя по философии Мориса Нейтансона: «Ошибкой было бы считать литературу кладбищем мертвых систем».
Потому-то и самый известный его текст — роман «Мертвый отец», изданный в 1975 году, — посвящен именно им, «мертвым системам». Это среди прочего: литературоведческим разборам «Мертвого отца» посвящена уже целая библиотека статей и книг, хотя не сказать, что за прошедшие 40 лет роман от этого стал «понятнее». Ироническое переосмысление модернизма (особенно на фоне романа Уильяма Фолкнера «Когда я умирала» — покойная Мать из него у Бартелми лишь маячит на горизонте одиноким всадником, ведя с Фолкнером интертекстуальный диалог), вдохновенная «Финнеганами» Джойса иллюстрация к «Тотему и табу» Зигмунда Фройда, с диалогами, которые могли бы вести герои Джосса Уидона, но вели персонажи Сэмюэла Бекетта, Том Стоппард, переодетый в Шекспира... Все это, разумеется, правда, и влияний, заимствований, отсылок и намеков в этом небольшом произведении, конечно, гораздо обширнее. Список литературных влияний Доналда Бартелми занимает несколько страниц — от Франсуа Раблэ, Хайнриха фон Кляйста и Рафаэля Сабатини до Франца Кафки, Флэнна О’Брайена и Томаса Пинчона. Это неспроста — писатель, объяснял сам Бартелми, становится писателем, «выбирая себе отцов. Поначалу я думал, что дальше Хемингуэя в писательстве зайти невозможно... тогда я даже не знал о существовании фон Кляйста... ничего не знал о Кафке, а как же можно писать, не зная хотя бы того, что был такой Кафка?.. Читая все больше, и в свою иерархию набираешь все больше отцов. А уже затем, призвав двадцать- тридцать отцов, возможно, рождаешься сам...»
Вот из этих компонентов и состоит текст — из отцов и мертвых систем, выведенных линейно — или пунктирно — в стилистическом диапазоне от Библии до Гертруды Стайн (знаменитые «бессвязные» диалоги Джули и Эммы у Бартелми, возможно, писались для его неоконченного романа о Г. С., а две эти женские фигуры — буквально сестры Силвии Плат, у которой с отцом, как известно, тоже все было непросто). Минималистичный этот миф, который Бартелми посвятил своей четвертой (и последней) жене Марион Нокс, служит своеобразным расширенным продолжением его первого романа «Белоснежка» (1967), а посмертно изданный его роман «Король» (1990) многие считают своего рода зеркалом «Мертвого отца». Линейность текста здесь, правда, тоже весьма условна — точкой отсчета в нем служит скорее не сама линия, а то, что находится за ней, на что сам текст лишь намекает. Так Кафка мог бы писать свое «Письмо к отцу», если б у него было чувство юмора Бартелми.
Но кто же такой сам Мертвый Отец? — спрашиваем мы себя вот уже четыре десятка лет. Композитный миф — он есть и любая фигура реального папы, и любой диктатор, и абстрактная идея, за которую идут на смерть, и структура самого языка или речь как таковая. Французские философы конца века в этом романе обнаружили свою излюбленную делянку, а американские критики 70-х — повод для идеологической войны. На самом же деле Бартелми сочинил здесь хрестоматийный постмодернистский текст, который досужие критики и любознательные читатели всего мира до сих пор разбирают на составные части: где у автора монтажные склейки, где разрезки, где словотворчество, где противоречия, где фирменные списки и каталоги понятий, где прямая речь как движитель повествования, а где — его знаменитые «беспозвоночные предложения» (кстати, о последних — о фразах «со сломанной спиной» — сам Бартелми говорил, что ищет «особого сорта фразу, быть может, скорее неуклюжую, чем красивую»). Это, несомненно, занимательный «де-конструктор», но лучше, мне кажется, просто открыть книжку и получить удовольствие от текста.