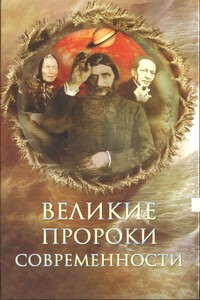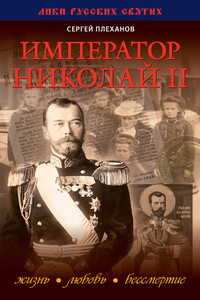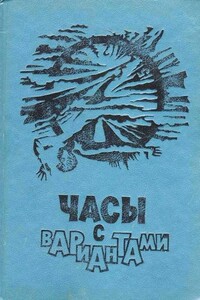Мир, купленный такой ценой, породил множество льстецов, превозносивших не только его великие свершения на войне, но возносивших до небес, что бы он ни делал вообще; таким образом все, что в нем было хорошего, странным образом смешалось с откровенно плохим и превратило его в настолько надменного человека, что редкие люди, да еще с большим трудом, могли его выносить. Кардинал особенно не мирился с его высокомерием. Его Преосвященство, видя, как дорого он хотел продать ему помощь против Парижан, хотя и не имел у них уже тех милостей, на какие претендовал, жаловался на это Королеве, а она, в свою [2] очередь, вовсе не была довольна тем количеством благ и привилегий, что тот же самый Принц требовал во всякий день от нее для своих Ставленников. Он даже пожелал, чтобы Его Величество позволил вход его Советникам к Принцу де Конти; это послужило явным доказательством того факта, что когда этот последний предложил свои услуги Парламенту, или это было уговором двух братьев, или же они договорились позже, дабы заставить себя больше бояться.
Эта милость, как и множество других, каких он требовал для Герцога де Лонгвиля, женившегося на его сестре, весьма не понравились Королеве; она находила, что бунт, куда устремились Принц де Конти и Герцог, был достоен соответствующего вознаграждения. Наконец, так как при Дворе принято делать точно такую же милую мину, когда хотят погубить персону, или с таким же очарованием делают ему что-то хорошее, Кардинал с одинаковой физиономией улыбался тому, кому он думал оказать невероятную милость, либо же подстроить самую страшную подлость. Он подстрекал Принца четыре или пять раз устраивать застолья вместе с ним буквально каждый месяц, и так как тот любил пирушки и увлекался ими с начала и до печального конца, Его Преосвященство делал вид, будто пьет, лишь бы раззадорить его еще больше. Этот Министр знал, что в таком положении человек не очень-то в состоянии контролировать себя, и он может вырвать у него именно ту мысль, какая ему была нужна. Он недурно в этом преуспел; Месье Принц, ничего не опасавшийся, как-то раз разгулявшийся не на шутку, потребовал от него присутствия Герцога д'Орлеана, кто был бы на этом празднике, не испугайся он Парижан, слишком нагнавших на него страху; если уж говорить всю правду, он дрожал не первый день; честно говоря, он трясся не раз в день Баррикад, по крайней мере, бледнел, и настолько, что если бы слышали причину, нетрудно было бы догадаться, какая с ним произошла неприятность. [4]
Ничто не удержало бы Принца от более язвительных насмешек, если бы он не побоялся от Министра более прямых действий. Он поговорил с Королевой, как с единственной персоной, способной пролить бальзам на его раны. Королева заметила с печалью, что Месье Принц далеко не был доволен милостями, получаемыми каждый день от Его Величества; он вновь начал претендовать на ранг Адмирала Франции. Он давно претендовал на это, как на нечто, принадлежащее ему по полному праву; Кардинал отвечал ему, что когда бы эта должность и в самом деле принадлежала ему, он обязан был бы от нее отказаться в силу множества благ, уже полученных им от Двора; он посмел ответить ему, что заслуги, недавно оказанные им, достаточно говорят в его пользу, а если кого-нибудь и можно назвать неблагодарным, их репутации достаточно красноречивы по этому поводу.
Столь заносчивое поведение окончательно поставило этого Министра в странные отношения с ним, и так как он был из страны, где бытует пословица: Passato perucolo il gabato del Santo, то есть, на добром французском: «Ни капельки не заботятся больше о Святом, к кому взывали, надеясь, что он поможет в нужде», он решил его погубить, желая, однако, поставить его на такое место, где он будет целиком и полностью зависеть от него. Королева, начинавшая безгранично доверять этому Министру, смотрела на все отныне, так сказать, его глазами, и очень скоро начала разделять его чувства и отношения. Они поклялись между собой в гибели Принца, и никто и никогда не видел в ней такого совокупления ненависти и доверия; насколько они доверяли ему только что, настолько же, уверившись в собственной безопасности, они постарались сделать ему как можно больше зла. Не было ни единого человека, не осознававшего, что мир, заключенный с Парижанами, был настолько непрочен, что мог быть разорван во всякий момент, правда, было бы довольно вырвать из их Рядов их Шефов, какими [5] они могли манипулировать для разжигания нового бунта; но уже совсем некстати в Совете было решено арестовать одновременно Принца де Конти, Герцога де Лонгвиля, и в то же время взять под стражу Принца де Конде.
Два правительства, вне зависимости от их близости к Парижу, готовили ему гибель. Одно было Правительством Шампани и Бри, а другое — наиболее богатой Провинции, какая только возможна в Королевстве; я хочу говорить о Нормандии, стране наиболее подозрительной, поскольку она всегда обременена тысячью податей. Итак, следовало поостеречься, как бы люди, шушукающиеся по углам против нынешнего Правительства, не воспользовались первым удобным случаем и не показали им, что такое дурное настроение населения. Один из правителей был мужчиной, недовольным самим собой. Не то, чтобы Наместники были недостойны друг друга. Один из них, Герцог де Лонгвиль, был предметом, презираемым всеми, презираемым самим собой, несмотря на высочайшее происхождение и супружескую связь с двумя Принцессами крови. Он имел нулевое соображение, и, хотя это ни на что уже не похоже, он обладал рассудком, и даже необыкновенным, во всем, что касалось Церкви, и был первейшим попом из множества, приписанных к его персоне. Кроме того, ни одна особа высокого происхождения не умела так обхаживать Двор.