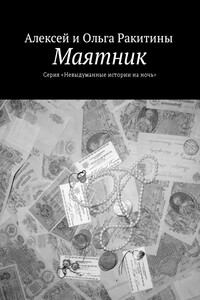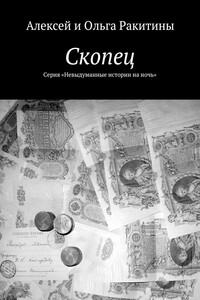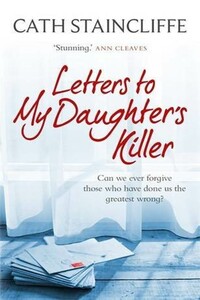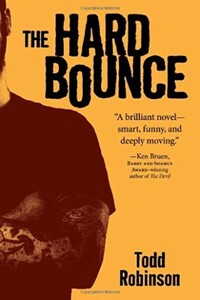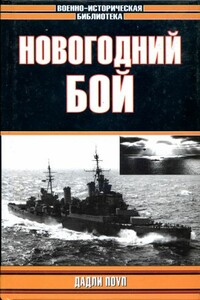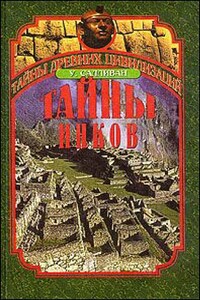Наконец-то девочка была мертва. Ее глаза, прежде такие жгучие, потеряли прежнее непримиримое выражение, а алые губы на побуревшем от прилива крови лице сделались похожими на кровоточивый разрез. Изо рта убитой выглядывал край носового платка; вот бы увидеть какими глазами на этакое зрелище будут таращиться те, кто первыми увидят тело! Платок, если всё делать по уму, следовало бы изо рта убитой вытащить, да и самому телу придать более пристойное положение, но к трупу уже не хотелось прикасаться.
Девочка, конечно же, ни в чем не виновата. Её можно считать жертвой обстоятельств никак с ней не связанных. Жертва безумных страстей, о каковых сама жертва даже не подозревала. В такой смерти есть нечто вергилиевское, об этом непременно надо будет подумать как следует, но попозже, не теперь… Просто есть такие минуты, когда тело поет и кровь ликует — и вот сейчас именно такая минута. И размышления способны лишь разрушить тот короткий интимный восторг, что так греет душу. Душу убийцы, ведь теперь я — убийца!
Нельзя останавливаться. Надо затушить свет, надо идти дальше, пусть убийство совершено, но остальную работу ещё только предстоит сделать.
Ведь всякую работу надо делать хорошо, даже если эта работа — убийство.
Утро 28 августа 1883 года в Петербурге выдалось ветреным и хмурым. В половине девятого во двор-колодец дома номер 57 по Невскому проспекту суетливой семенящей походкой вошел неказистый на вид мужичонка средних лет, живой, юркий, из тех, кого принято называть пронырой. Он был знаком, почитай, со всеми обитателями этого большого двора, потому как был по натуре говорлив и боек и почти всегда пребывал в бодром настроении. Его тоже знал всякий — это был Пётр Лихачев, скорняк. Поздоровавшись с дворником Анисимом, который занимался обычным своим утренним делом — выметал двор, мужичонка прошел к угловому подъезду.
Лихачев направлялся в ссудную кассу Мироновича, располагавшуюся бельэтаже, дабы получить обещанную давеча хозяином кассы работу. Частенько клиенты ростовщика не выкупали свои вещички — шубы, муфточки, манто, меховые шапки, — и Лихачев в таких случаях нанимался, чтобы сделать мелкий ремонт или перешивку. В дверях подъезда он столкнулся с портнихой Авдотьей Пальцевой. Это была толстая рябая девушка, очень добрая и очень некрасивая, обречённая весь свой век просидеть в девках. Жила она по соседству, в следующем дворе. Оказалось, Пальцева тоже направлялась к Мироновичу, и тоже за работой, только по портняжной части.
Они вместе поднялись по широкой гранитной лестнице к двери в помещение ссудной кассы. Шустрый Лихачев по обыкновению своему забежал вперед, а Авдотья сосредоточенно и неспешно несла свое неуклюжее тело позади. Подойдя к двери, Пётр решительно пару раз крутнул вращающуюся ручку звонка. Где-то за дверью тренькнул звонок. Не дожидаясь появления хозяина Лихачёв потянул дверную ручку. Дверь неожиданно отворилась.
— Странно — не заперто… обычно Иван Иваныч завсегда дверь запирает, — удивился скорняк.
— Что ты дергаешь-то? Подожди, пока тебе откроют, — меланхолично отозвалась Авдотья.
— Молчи, женщина, — осадил ее скорняк, — Я говорю: странно, что дверь отперта.
Он стоял на пороге, не решаясь войти в темную прихожую. Из помещения кассы не доносилось ни звука, казалось, там вовсе никого нет. И это было очень подозрительно, поскольку богатую ссудную кассу невозможно было представить без ее работников и притом с открытой входной дверью.
— Пошли уж, что ли, — предложила Авдотья, — Чего стоять-то на лестнице?
Лихачёв вместе с Пальцевой осторожно вошёл в темную прихожую и снова остановился. Иван Иванович Миронович, хозяин кассы, был человек крутого нрава, самоуправства не терпел, во всем любил порядок и распорядительность. А стало быть, ему бы вряд ли понравилось, если бы в его кассу вот так запросто вошли посторонние люди.
Ссудная касса представляла собой переделанную под контору большую квартиру. Темная передняя, лишенная окон и какого-либо другого естественного освещения, вела в просторную комнату, перегороженную надвое громоздким письменным столом. В этой комнате, вдоль самой длинной её стены тянулась большая стеклянная витрина со стеклянной крышкой, похожая на те, что можно видеть в музее. Витрина эта была наполнена всякого рода мелкими драгоценными предметами — запонками, булавками для галстуков, серёжками, кольцами, браслетами и прочими приятными вещицами — сданными в заклад и невыкупленными хозяевами. Теперь они предлагались к продаже как в обычном магазине. Вдоль других стен стояли видавшие виды шкафы-гардеробы с ободранным по углам лаком, которым очень подошло бы название «рухлядь», если бы не их добротность и основательность. Все их ножки, дверцы, потайные отделения были в исправности, все они запирались на замки, как, впрочем, и всё в этой комнате, включая стеклянную витрину. Пара мягких кресел — таких же обшарпанных, с почти до дыр протертой обивкой, дополняла неказистый интерьер.
Другая дверь из прихожей вела в кухню, из которой налево был вход в дальнюю маленькую полутемную комнатку, обычно заставленную всяким хламом. Направо от входной двери в прихожей были еще три смежные комнаты, которые использовались как жилое помещение и склад.