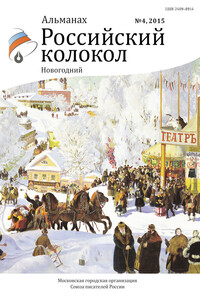На самом деле моя мама человек в высшей степени добрый и в высшей степени взбалмошный. Ладить с ней нет просто никакой возможности. Она может дать сто заданий одновременно, затем отменить их, затем снова задать, в конце концов переделать все самой, а меня отругать за неповиновение. Она может в субботу браниться из-за того, что похвалит в понедельник. Купить мне новый наряд, а затем, решив, что я недостаточно пылко изъявляю благодарность, засунуть обнову глубоко в шкаф, пообещав не выдать никогда. Словом, моя мама… Это моя мама.
Когда я училась в школе, мы часто ссорились, а когда я поступила в институт, то и вовсе перестали понимать друг друга. Периодически, когда чаша терпения переполнялась, я ретировалась к бабушке с дедушкой. Мудрый дед вел долгие разговоры с мамой. Коротко суть их сводилась к следующему — дед терпеливо внушал маме старую как мир истину: ее дочь уже выросла и являет собой самостоятельную личность, которая при желании в очень скором времени сама может стать матерью.
Последний довод действовал на маму, как красная тряпка на быка. Она немела от негодования, а затем начинала громко хохотать. Для мамы я пожизненно была ребенком на тонких, как две вермишелины, ногах с луковицами коленок и пышным белым бантом на голове — фотографией из семейного альбома. Но фотография от страницы к странице менялась, становясь то школьницей с толстой косой, то старшеклассницей с короткой по моде стрижкой, то рослой вполне симпатичной студенткой — и моя мама, даже со своим характером, ничего не могла поделать с этой быстротечностью времени.
Свадебный марш Мендельсона над моей головой прозвучал в маминых ушах ударом грома.
А через год появился Он. Маленький, сморщенный, со старческим малиновым личиком, мягкой продолговатой головенкой с редкими кустиками пуха и вздутым животом, в центре которого торчал обрубок пупа (до чего же уродливы новорожденные!). Однако отныне Он стал воплощением красоты, смысла и содержания жизни в нашем доме. И на него полился нерастраченный источник любви, заботы и нежности.
— Теперь ты для меня не существуешь, — сказала мама, когда я вернулась из роддома. — Теперь у меня есть Он.
— Но почему же… — попытался возразить мой муж. — Это ведь наш ребенок.
— Не подходи, — холодно отчеканила мама. — Ты не стерилен. От тебя микробы.
Молодой отец растерялся, покрылся красными пятнами, открыл в негодовании рот, чтобы… Но в этот момент из свертка, положенного на диван, раздалось невнятное покряхтыванье, а затем громкий и требовательный крик.
— Ребенок хочет есть, — мама прижала сверток к груди.
— Может быть, вы его и покормите? — насмешливо спросил молодой отец.
Мама задохнулась от возмущения и передала младенца в мои руки.
Впрочем, история, которую я хочу рассказать, вовсе не о том и связана с этим пространным вступлением лишь косвенно. Дело в том, что в нашем доме проживало еще одно живое существо — толстый черный кот по прозвищу Тимофей.
Тимофей занимал в мамином сердце место исключительное. Обычно мама приходила с работы, открывала дверь я начиналось:
— Ах, ты мой ненаглядный! Мой лапусик! Как же ты весь день без меня? Небось голодненький… Разве эта бездельница тебя покормит как надо? Ну, ничего — я свежей рыбки принесла, специально для тебя в очереди стояла…
И далее уже вечером перед телевизором, лаская ненаглядного лапусика на коленях, мама обычно говорила, выразительно глядя в мою сторону:
— Он единственный, кто меня не расстраивает!
На это мне возразить было нечего. Кот имел передо мной два неоспоримых преимущества: во-первых, не умел разговаривать и потому всегда соглашался с тем, что сказала мама, а во-вторых, был все-таки мужского рода. Хотя сей факт, надо сказать, остался в прошлом…
Мама сама свезла Тимофея в ветлечебницу, так как по молодости лет жгучими мартовскими ночами кот начал уходить из дома. Причем, загуливал не на шутку, являясь через несколько суток с вырванными клочьями шерсти и подпухшим зеленым глазом. Мама это очень переживала, подозреваю, что в ней говорило чувство собственничества, так развитое у женщин. Поэтому постыдные загулы решено было прекратить.
Надо честно заметить, что поездка в ветлечебницу произвела неизгладимое впечатление не только на обреченного отныне на безбрачие Тимофея, но и на мою маму. Когда она вернулась, на ней не было лица:
— Он кричал нечеловечьим голосом, — сказала мама и налила себе валерьянки.
После описанных выше событий Тимофей перестал повиноваться низменным животным инстинктам, не обращая внимания на представительниц противоположного пола. Но на улицу продолжал ходить, очевидно, чтобы окончательно не потерять интерес к жизни.
С появлением младенца в доме неколебимые позиции Тимофея зашатались на глазах. О традиционной порции свежей рыбки не могло быть и речи, если младенец высосал на десять грамм молока меньше, чем написано в книге Спока, или, упаси бог, не обмочил нужного количества пеленок.
Кот отощал. Канули безвозвратно теплые вечера у телевизора с нежным воркованием:
— Тиша мой ненаглядный. Тиша мой единственный…
Увы, единственным может быть только один. И эту жестокую, но правдивую истину Тимофей очень скоро почувствовал на собственной шкуре.