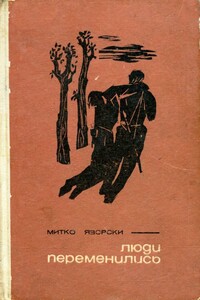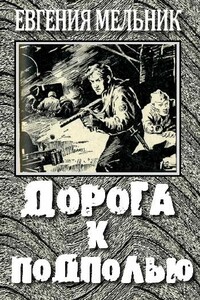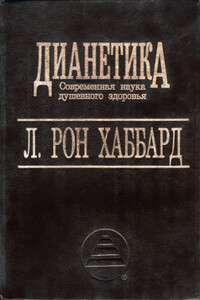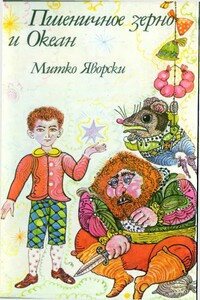Село притаилось под искрящимся снежным покровом. Не слышно напевного журчания реки, умолкли ручьи, притихли рощи, луга и поля.
Над крышами, над лесистыми холмами и дальше к югу до самого Балканского хребта — синее, холодное небо. По гребням Кадемлии и Юмрукчала лениво ползет туман, холодный и злобный, как гадюка. В хлевах подает голос скот. Вечером из узких окошек льется желтый свет коптилок и керосиновых ламп. На дворы и сады опускается тишина.
В дневную пору вокруг дымовых труб и под соломенными кровлями навесов и сараев чирикают зябнущие воробьи. Голодные сороки поклевывают спины свиней. Часто пролетают над селом стаи диких уток, гонимые с берегов Дуная северными ветрами. Когда задувает южный ветер, на стрехах повисают гроздьями сосульки. Отходит земля и крестьяне отправляются на свои полоски. По праздникам радость вытесняет все иное в крестьянских душах, и в домах допоздна звучат веселые песни.
*
Дом Караколювцев, грузная, неуклюжая громада, притулился под склоном бугра. Его нижний этаж, обмазанный глиной, сливается по вечерам с темнотой, а второй этаж выделяется побеленными известкой стенами. Галерея вдоль второго этажа улыбается долине с речушкой, Кадемлии и Юмрукчалу. Оголенная круча склона сползает на дом, словно хочет подмять его, но на ее пути встала высокая каменная ограда.
Синеватый мрак трепещет в светлых отблесках звезд. Затвердевший от мороза снег поскрипывает под широкими постолами Габю Караколювца. Он только что проведал скотину и теперь стоит, засунув руки в рукава кожуха и близоруко всматривается в замершие вдоль ограды деревья и кусты. Этой ночью они тоже заботили его.
— Коли не потеплеет, померзнут, — подумал Габю вслух и вошел в кухню.
Тлеющие в очаге угли, словно сонные глаза смежали веки, подергивались серебристой золой. Из оконца в кухню доносился говор домашних.
— И где это ты валандаешься? Ровно не знаешь, что нам пора уже… опоздаем, — встретил его хриплый голос жены.
Караколювец разом одернул ее:
— Подумаешь куда собрались… до Меилова двора рукой подать. Тропку, что ли, протоптать тебе?.. — Он задумчиво поглядел на кровать, прищурив окруженные сеточкой мелких морщин серые глаза и тихо добавил: — Сношенька, хорошо ли ты укутала розовый куст? Морозно на дворе, кабы не пропал он.
— Не бойся, не замерзнет, — ответила Вагрила, с улыбкой поглядев на свекра.
Растущий перед домом большой розовый куст красочно распускался весной, встречая ароматом каждого, кто входил во двор. Подумав об этом кусте, Вагрила снова улыбнулась.
— Пойдем, сношенька, — засеменила к дверям бабушка Габювица.
Вагрила погладила опушенные черным мехом полы полушубка и встала. На ноги ей крупными складками опустился сукман[1]. На тонкой высокой шее звякнуло ожерелье. Набросила на голову толстую шаль с вышитыми шелком цветами, спрятав зарумянившиеся от тепла щеки. Всем своим видом она словно говорила: «Я готова».
Они взяли медное блюдо со снедью, покрытое таким же блюдом, узел с двумя караваями и вышли. Петкан сунул за кушак бутыль с ракией[2], желтой как подсолнечное масло, повесил на руку баклажку и последовал за женщинами. Караколювец прилег на кровать, прислушиваясь к шагам уходящих. Когда хлопнула калитка, он подложил под голову жесткие ладони и уставился в потолок, разглядывая толстые балки, в которых ему были известны каждый сучок, каждая трещинка и ходы, проделанные жучками-древогрызами.
Со средней балки торчит пачечка бумаг. Он видел ее и раньше, но сейчас не вытерпел, встал. Разноцветные листки бумаги зашелестели под пальцами, словно сухие листья кукурузного початка.
— Налоговые квитанции, — покачал он головой. — Это Петкан их туда засунул, разве можно так… — Караколювец подошел к окну, чтобы спрятать квитанции в укромное место. В это время распахнулась дверь соседнего дома и в темень выплеснулся золотой дорожкой свет керосиновой лампы, а вместе с ней поток веселого гомона. Дед Габю потоптался малость и вышел из дома.
У Меиловых в этот вечер, как и каждый год, собрались соседи встречать святого Сильвестра — праздник покровителя скота. Посреди комнаты, прямо на глиняном полу серой дорожкой лежит дерюжная скатерка. С одной стороны сидят плечом к плечу, спиной к стене, мужчины, напротив них — женщины. С дымным светом очага противоборствуют две керосиновые лампы. Скатерка уставлена медными блюдами, глазурованными троянскими мисками и плошками. Кое-где среди них, словно белые голуби, блестят фарфоровые тарелки, поставленные для гостей из города. Вся эта посуда наполнена разною снедью — жареная свинина, курица с рисом, кровяная и другая домашняя колбаса, сочащиеся жиром пироги. И хлеб, как люди, нарядный — украшенный вязью разных узоров. Из рук в руки переходили бутылки с ракией. Выпивая и закусывая, люди беседовали о разных вещах и разговоры их были выражением какой-то праздничной душевной потребности. Если кто-нибудь заводил речь о своих невзгодах, никто его не слушал. В этот вечер крестьяне старались не вспоминать о будничных заботах.
Караколювец будто не решаясь войти остановился в дверях, щурясь от щиплющего глаза дыма.