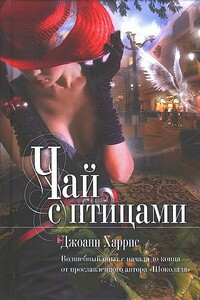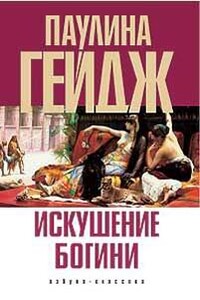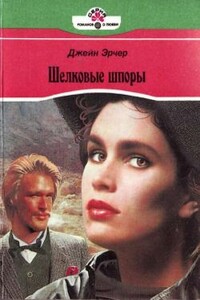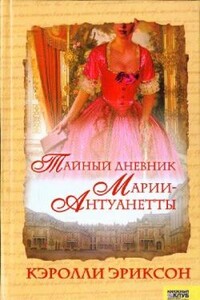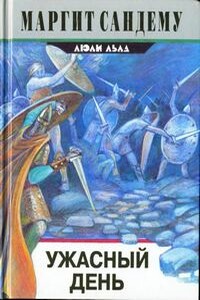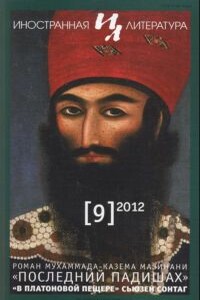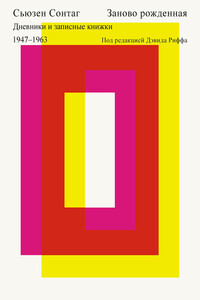Вот и блошиный рынок. Вход свободный, платить не нужно. Неряшливая толпа. Бодрая, оживленная. Зачем тебе туда? Что там интересного? Да я просто посмотрю. Посмотрю, что еще есть в этом мире. Что осталось. От чего избавились. Что больше не любят. Чем пришлось пожертвовать. Что, по чьему-то мнению, способно заинтересовать других. Но это же — хлам. Сюда свалено лишь то, что уже отсеяли. И все же здесь можно отыскать нечто ценное. То есть не то чтобы ценное. Но то, чего захочу именно я. Захочу спасти. То, что ответит моим ожиданиям, заговорит со мной. Заговорит, расскажет. Ах…
Зачем тебе туда? Делать нечего? Будешь бродить, глазеть по сторонам. Потеряешь счет времени. Тебе только кажется, что его достаточно. Это всегда занимает времени больше, чем рассчитываешь. И ты опоздаешь. Будешь на себя злиться. Но все равно поддашься искушению. Ведь вещи манят. Но и отталкивают. Они грязные. Поломанные. Кое-как зашитые или не зашитые вовсе. Они повествуют о страстях и причудах, о которых мне знать не нужно. Нужно… Ах, нет. Ничего этого мне не нужно. Просто некоторыми я полюбуюсь. Другие потянет взять, нежно повертеть в руках. В это время за мной будут пристально следить владельцы. Но я не собираюсь воровать, скорее всего, не собираюсь и покупать.
Зачем тебе туда? Просто поиграть. В узнавание. Узнать, что это, чем оно было, чем должно быть, чем будет. Не торговаться, не называть свою цену, не приобретать. Просто смотреть. Просто бродить. У меня легко на душе, светло в голове.
Зачем тебе туда? Таких мест полно. На площади, в сквере, на укромной улочке, на складе, на стоянке, на пирсе, где угодно. А мне попалось именно здесь. Оно такое же, как везде, — и поэтому я войду. В джинсах, шелковой рубашке и теннисных туфлях: Манхэттен, весна 1992 года. Ограниченный опыт чистых возможностей. У одного портреты кинозвезд, у другой — полный поднос колец индейцев-навахо, у этого целая вешалка летных курток времен Второй мировой, у того ножи. Модели машин, хрустальная посуда, плетеные стулья, цилиндры, римские монеты, а там… жемчужина, сокровище. Оно может мне встретиться, я чувствую. Во мне может зародиться желание его купить. Я куплю в подарок, да-да, подарю кому-нибудь. По крайней мере, буду знать, что такая вещь существует и что нашлась она здесь.
Зачем тебе туда? А разве причин недостаточно? Да, может оказаться, что никакого сокровища там нет. Я могу не узнать его, поставить обратно на столик. Но меня ведет желание. Воображение рисует то, что хотелось бы видеть. Довольно раздумий.
Я вхожу.
* * *
Аукцион заканчивается. Лондон, осень 1772-го. Огромный зал. К стене прислонена картина в золотой, пучащейся листьями раме: «Венера, разоружающая Купидона», предположительно — кисти Корреджо. Владелец возлагал на нее большие надежды, но она не продана. Предположение о Корреджо оказалось ошибочным. Зал постепенно пустеет. К картине медленно подходит высокий (для своего времени) мужчина сорока двух лет, с умным лицом. За ним на почтительном расстоянии следует человек вдвое моложе. Их аристократические лица отмечены сильнейшим фамильным сходством. Оба худощавы, бледны, высокомерны.
Моя Венера, — говорит старший. — Я был уверен, что ее купят. Она вызвала такой интерес.
Что ж, увы, — отвечает молодой.
Не понимаю, — недоумевает старший, — уникальность картины столь очевидна. — Он искренне озадачен. Молодой человек слушает, подобающим образом нахмурясь.
Мысль о расставании с ней казалась невыносимой. Полагаю, мне следовало бы радоваться, что ее не удалось продать, — продолжает старший. — Но обстоятельства вынуждали, и я не думаю, что запросил чересчур высокую цену.
Он пристально смотрит на свою Венеру.
Очень тяжело, — говорит он, имея в виду не сложность осознания причин, по которым картина не была продана (и не сложности, связанные с отражением атак кредиторов), а само решение продать. — Ведь я молился на эту картину. Однако, после того как стало ясно, что ее придется продать, я внутренне отказался от нее; теперь же, когда никто не предложил хорошей цены и картина осталась моей, я должен бы любить ее по-прежнему, но, клянусь, я не способен. Разлюбив, чтобы продать, я уже не могу наслаждаться ею, как раньше, — и в то же время, коль скоро продать картину не удалось, я хочу полюбить ее снова! Глупо будет, если из-за неудачи на аукционе она потеряет для меня свою прелесть.
Что же делать? Как любить ее, — вслух размышляет он. — Как любить ее теперь.
Полагаю, сэр, — изрекает молодой человек, — единственный вопрос — в том, где ее теперь хранить. Уверен, что покупатель непременно сыщется. Позволено ли мне будет от вашего имени заняться поисками покупателя среди коллекционеров, знакомых мне, но, возможно, не знакомых вам? Мне доставит удовольствие осторожно навести справки после вашего отъезда.
Действительно, время ехать, — отвечает старший.
Оба выходят.
* * *
Вот рот вулкана. Да, рот, а лава — язык. Тело, чудовищное, живое, и мужское, и женское. Оно извергает, исторгает. Но оно также и полость, бездна. Нечто живое, то, что может умереть. Нечто инертное, что способно возбуждаться время от времени. Нечто, существующее не всегда, постоянная угроза. Хоть и предсказуемая, но часто не предсказанная. Нечто капризное, неуправляемое, зловонное. Не это ли называется первобытным? Невадо-дель-Руиз, гора Святой Елены, Ла-Суфрир, Мон-Пеле, Кракатау, Тамбора. Дремлющий монстр, который просыпается. Монстр, который с рыком обращает внимание на