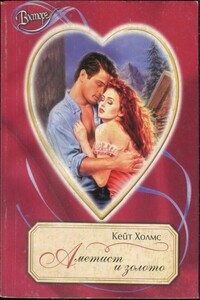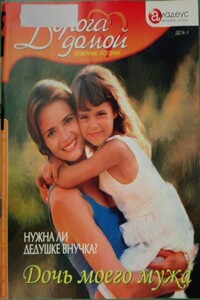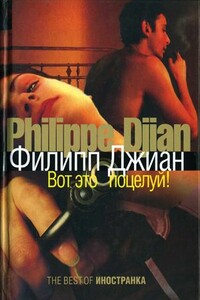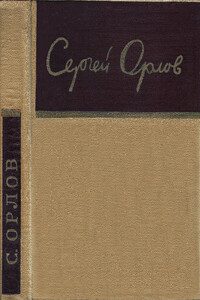И вдруг я увидел ее. В сельской лавчонке. Стоя у прилавка в лучах яркого утреннего солнца, она беседовала с продавцом, пока тот укладывал ее покупки в пакет. Я узнал ее сразу. Те же светлые волосы, только теперь длинные, заплетенные в косу, спадавшую вдоль спины. Та же белая, казавшаяся прозрачной кожа. И моя рука тотчас же скользнула вниз, готовая ощутить привычную тяжесть пистолета. Стоило мне услышать ее голос, как я невольно отпрянул назад, к деревянному стеллажу с продуктами, сжимая пальцами поясной ремень. Острые края полок вонзались мне в спину. На лбу выступила испарина, рубашка взмокла от пота. Еще один вошедший в лавку покупатель сердито отстранил мой локоть и, что-то ворча себе под нос, попытался достать нужную ему банку у меня за спиной, но я не двинулся с места. И опять моя рука непроизвольно скользнула вниз. Я забыл, что больше не ношу оружия.
Да, это была она. Когда мой адъютант впервые привел ее ко мне в кабинет, она показалась мне еще более хрупкой, чем тогда, во дворе: выцветшая лагерная роба болталась на ее худеньких плечах. Голова была повязана красным платком. Отпустив адъютанта, я отложил перо и поднялся из-за стола. Я приблизился к ней и взглянул на ее худое лицо с острыми скулами и темными кругами под глазами, отметив при этом пухлые, сочные губы. Под ветхой тканью ее лагерной робы угадывались маленькие упругие груди. Я удовлетворенно кивнул и медленно прошелся вокруг нее, водя дубинкой по ее животу, бокам, бедрам. Она не отстранилась. Тогда я провел рукой по ее спине: под серой робой на ней ничего не было. Я мысленно улыбнулся и стал тискать ее гибкое тело, пока мы не оказались лицом к лицу. Когда я приподнял дубинкой ее подбородок, она не отвела глаз.
— Ja, — сказал я, глядя ей прямо в глаза. — Ja.
Я не отвел взгляда. Это было не в моих правилах. Я всегда смотрел прямо, не пряча глаз и не мигая. Я смотрел на трибуну и восторженно кивал. Рядом со мной были такие же, как я, исполненные воодушевления молодые люди в таких же, как у меня, черных мундирах. Наши взоры были прикованы к трибуне и стоявшему на ней невысокому человеку в очках с тонкой металлической оправой. Его имя мало что говорило нам тогда, зато лицо было отчетливо видно в свете факелов, освещавших трибуну и плац. Гордость распирала нам грудь. Затаив дыхание, мы ловили каждое слово оратора. В стеклах его очков отражался свет факелов, и оттого казалось, что в глазах у него полыхает пламя.
— Мы — воплощение чистоты нации, — отчеканил оратор. — Ее благородства. Ее доблести. Мы — надежда нашей страны.
Все мы, будущие офицеры, дружно закивали.
— Ради достижения великой цели мы не пощадим собственной жизни, — продолжал человек на трибуне. — И уж тем более не пощадим чужой жизни.
О, нас не страшили никакие жертвы. Мы аплодировали до тех пор, пока оратор не поднял руку, требуя тишины:
— Вы поклялись честно исполнить свой воинский долг, но я уверен, что вы способны на большее. Я уверен, что вы спасете нашу страну. Нашу родину. Наше отечество.
Толпа взревела в едином патриотическом порыве. Сжимая одной рукой рукоятку пистолета, я вскинул другую в приветствии. Тому, кто не был там, трудно понять наше тогдашнее состояние. Высокая трибуна. Оратор. Его простертые к небу руки. Сполохи пламени. Черное сукно наших мундиров. Дух энтузиазма. Ослепительный свет факелов. И дружный хор голосов, повторяющих, словно молитву, одни и те же слова.
— Meine Ehre heisst treue, — произнес я. — Моя честь — моя верность.
Яркий свет резал глаза. Моя рука, привычно сжимавшая пистолет, дрожала. Я потянул на себя затвор, взвел курок и стал медленно поднимать руку вверх, но она тотчас же безвольно опустилась. Я отхлебнул еще виски и поставил стакан на раковину. Зажмурившись и стиснув зубы, я снова вскинул пистолет и приставит дуло к холодному виску.
— Ну же, — сказал я, — давай!
Открыв глаза, я увидел в зеркале свое отражение: дуло пистолета, приставленное к правому виску, взлохмаченные волосы, затравленный, как у заключенного, взгляд. Я почувствовал приступ дурноты. Склонившись над раковиной, я сжал свободной рукой ее край, пока дурнота не прошла. Казалось бы, что может быть проще: поднести пистолет к виску и спустить курок. Я столько раз стрелял из пистолета, что, разбуди меня среди ночи, не замешкался бы ни на минуту. Я ополоснул лицо холодной водой. Выпрямился и, затаив дыхание, изо всех сил прижал дуло к виску. Ну, нажимай! Сильнее. Еще сильнее. Стальное дуло у виска. Висок под стальным дулом. Жми. Жми сильнее. Пока висок не заноет от боли. Нет, мне не было страшно: у меня попросту не хватило духа.
— Папа, у меня болит голова, — сказала Ильзе.
Она со страдальческим видом сидела за столом, положив подбородок на руки.
— Это от газа, — добавила она.
— От газа? — удивился я, звякнув ножом о тарелку. — Я не чувствую запаха газа.
— Надо проверить плиту, — сразу насторожилась Марта.
Она поставила на стол свою тарелку, вытерла руки о фартук и, подойдя к плите, принялась осматривать и нюхать горелки.