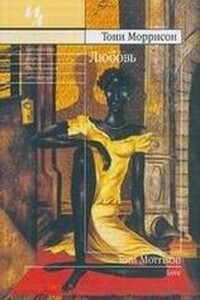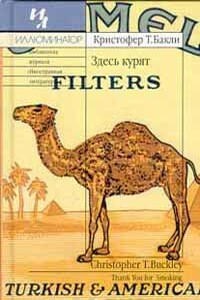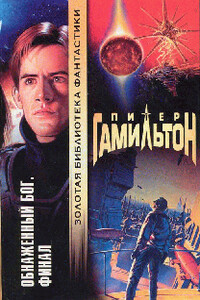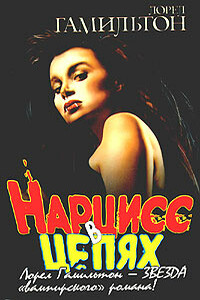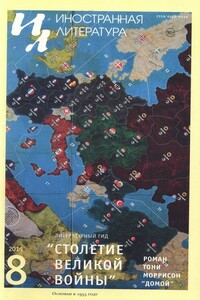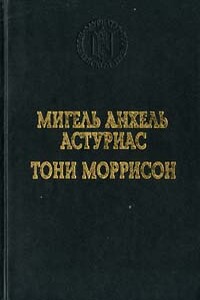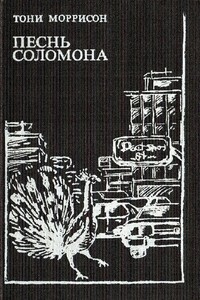Женщины машут ногами, раздвигают их шире некуда, а мне что, я напеваю, мурлычу себе под нос. Мужчины распаляются, злеют, но понимают, что все это им на потребу. Это они, стало быть, отдыхают. Стоять сложа руки, когда все это у тебя на глазах, – удовольствие маленькое, но я не говорю ни слова. Я вообще по характеру спокойная. В детстве была девочкой вежливой, уважительной, а стала взрослой - тоже считалась скромной. Да и потом, позже, когда пришла зрелость, говорят, она не обделила меня толикой свойственной ей мудрости. В нынешнее время молчать считается как-то странно, люди моей расы в большинстве своем забыли прекрасное умение выразить многое немногими словами. Языки теперь болтаются абы как, без участия мозгов. Раньше-то я ведь умела – по-настоящему умела слово сказать, могла так сказануть, что матку затворяла, а то и нож останавливала. Нынче – нет, потому что еще с семидесятых, когда женщины начали прыгать верхом на стульях, когда по телевизору такие пляски пошли, что у баб всю промежность видать, а по журналам валом повалили голые задницы и раздвинутые ляжки (будто это все, что женщина собою представляет), – короче, еще тогда я замолчала напрочь. Прежде женщины не соглашались публично выворачиваться нараспашку, в те времена были все же какие-то тайны: что-то высказать, что-то попридержать. А теперь? Нет! Бесстыдство теперь в порядке вещей, вот я и помалкиваю, только мурлычу себе под нос. Под музыку, что я творю губами, у меня в голове пляшут слова. Люди заходят кто за порцией лангуста, кто просто время скоротать, и ни один не заметит – дай плевать им, если бы заметили, – что говорят только они сами. А я как бы фон, вроде той музыки в кинофильме, которая звучит, когда впервые встречаются будущие влюбленные или когда в одиночестве бредет по пляжу муж, озабоченный тем, не видел ли кто, как он не устоял и совершил-таки непотребство. Мое мурлыканье людей ободряет – проясняет их мысли, вроде звуковой дорожки в том месте фильма, когда Милдред Пирс решает, спасая дочь, сесть вместо нее в тюрьму [1]. Подозреваю, что моя музыка как ни тиха, но тоже оказывает похожее влияние. Действует как мелодия «Mood Indigo» [2], когда она разносится над волнами, – ведь под нее даже плывешь иначе. Она не заставит тебя нырнуть, поможет отточить стиль, которым ты плывешь, или вдохнуть в тебя уверенность, будто ты хитер и удачлив. Так почему бы не заплыть подальше, а потом и еще дальше? Что тебе глубина? Она где-то там, внизу, и не имеет отношения к твоей крови, разогретой до самозабвенной храбрости клапанами кларнета и клавишами рояля. Я, конечно, не претендую на подобную силу. У меня ни диапазона, ни силы голоса, я – так, для себя напеваю, бубню, как старая женщина, которой стыдно за весь белый свет; она таким образом просто выражает свое несогласие с тем, куда катится уходящий век. В котором все познано и ничего не понято. Может, и во все времена так было, но меня это как-то не тревожило, пока лет тридцать назад не пришло в голову, что именно проститутки всегда задавали тон – именно они, и такой роли они удостаивались за откровенность. Ну, может, дело и не в откровенности, может, тут главное – их жизненный успех. И все же, прыгают ли они верхом на стуле или пляшут полуголыми на экране телевизора, эти девицы из девяностых не так уж и отличаются от респектабельных женщин, что живут в наших краях. Края у нас очень крайние, дальше сплошной океан, живем в сырости и страхе Божием; а женское безрассудство у нас тут коренится глубже, чем трусики-стринги, спецодежда «садо-мазо» или кривлянье перед камерами. Но ни тогда, ни теперь, в приличных ли они трусах или без трусов вовсе, беспутным женщинам не утаить глупой наивности, этакой ребячливой настроенности на то, что принц - вот он, на подходе, уже спешит к ней. Особенно это относится к кривоносым хулиганкам-матерщинницам, да и к лощеным фифам с их двухместными машинами и бумажниками, набитыми наркотой.Даже тем синерожим, в чулках, свалившихся до щиколоток, кто шрамы выставляет напоказ, будто медали за храбрость, и то не утаить балованного ребенка, девочки-обаяшки, что прячется где-то внутри, под ребрами или, еще говорят, под сердцем. Естественно, каждой наготове печальный рассказ: слишком опекали, мало опекали, а то и про что-нибудь похуже. Какая-нибудь сказочка о злобном папаше и коварстве мужчин или о подлой мамочке и друзьях-подружках, которые без конца предавали. В каждой такой истории обязательно присутствует мерзавец, чудовище, из-за которого она стала злобной, не став храброй, и потому теперь ей проще впустить кого-то к себе между ног, чем в сердце, туда, где прячется сонно свернувшаяся девочка.
Подчас шрам так глубок, что жалостной сказочки уже мало. Тогда ту лавину безумия, что наваливается и погребает под собою женщин, заставляя их ненавидеть одна другую и губить своих детей, им остается объяснять единственно злом извне. В народе из бухты Дальней, откуда родом и я сама, поговаривали, бывало, о неких существах, их называли шлемоглавиками – мерзких гадах с большими шляпами на головах, – будто бы эти шлемоглавики выскакивают из океанских вод, нападают на беспутных женщин и едят непослушных детей. Когда моя мать сама была девчонкой, она их видела; в те времена люди грезили наяву. Потом шлемоглавики на какое-то время исчезли, но в сороковых годах появились вновь, причем их шляпы сделались еще больше, и на пляжах подчас стали происходить всякие странности: «Вон! Вон! Туда смотри! Говорили же, говорили тебе» Вроде как с той женщиной, что кувыркалась на пляже с мужем соседки, а на следующий же день в цехе консервного завода с ней случился удар – так и упала с разделочным ножом в руке. А было ей от силы лет двадцать девять. Другая женщина – она жила в городке Силк и людей из бухты, что называется, в упор не видела, – так она как-то вечером спрятала в песке на участке свекра фонарик и документы на всю недвижимость, а их возьми да и выкопай ночью морская черепаха. Бедной невестке пришлось из кожи вон лезть, чтобы на слухи об этих украденных ею бумагах не сбежался весь Ку-клукс-клан. Когда опозорились эти две преступницы, никто никаких шлемоглавиков, конечно же, воочию не наблюдал, но я знала: без них не обошлось; знала я и как они выглядят – видела в тысяча девятьсот сорок втором году, когда компания дурашливых подростков заплыла за буйки и все утонули. Когда их затянуло под воду, над кучкой зевак, у которых от ужаса прямо ноги в песок вросли, и над зашедшейся в крике матерью одного из утопших собрались грозовые тучи и вдруг – раз!- и превратились в профили разинувших пасти чудищ в широкополых шляпах. Кое-кто слышал гром, но я могу поклясться, что до меня донеслось довольное урчанье. С того раза и на протяжении всех пятидесятых шлемоглавики непрестанно болтались за полосой прибоя, сновали туда-сюда вдоль пляжа, чтобы, как солнце закатится, чуть что, сразу выскочить (вечер