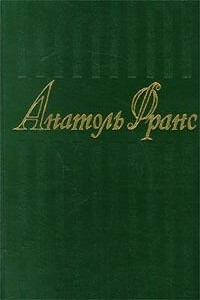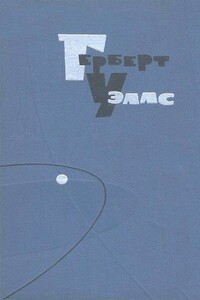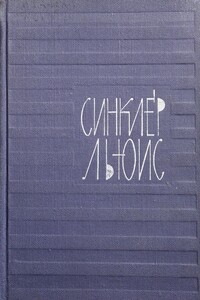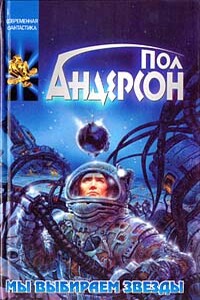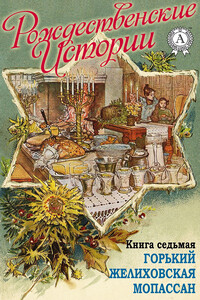Три страницы из записной книжки охотника...
Только что прочитал в Хронике происшествий заметку о любовной драме. Он убил ее, затем себя — значит, любил эту женщину. Но разве дело в Нем или в Ней? Мне есть дело только до их любви, и не потому, что она умиляет меня, или кажется необыкновенной, или глубоко волнует, или погружает в раздумье, а потому, что приводит на память случай, которому я был свидетелем в юности, поразительный случай на охоте, когда я воочию увидел Любовь, как древние христиане воочию видели крест на небесах.
Я унаследовал все инстинкты и страсти первобытного человека, охлажденные здравым смыслом и чувствами человека цивилизованного. До безумия люблю охоту и, когда вижу окровавленную дичь, когда вижу кровь на ее перьях и кровь на своих руках, сердце у меня начинает так бешено колотиться, что темнеет в глазах.
В том году к концу осени внезапно ударили холода, и Карл де Ровиль, мой двоюродный брат, пригласил меня к себе пострелять на заре уток на болотах.
Мой милейший брат, мужчина лет сорока, рыжий бородач и силач, чистопородный сельский дворянин, до некоторой степени животное, но весьма симпатичное, весельчак, с той щепоткой галльской соли, которая делает привлекательной любую посредственность, жил в своем поместье — полуферме, полузамке — посреди просторной речной долины. Справа и слева ее окаймляли лесистые холмы, и в этих древних господских лесах сохранились дивные по своей мощи деревья и редчайшая для этой части Франции пернатая дичь. Там случалось подстрелить орла; там перелетные птицы, из тех, что почти никогда не появляются в наших перенаселенных краях, почти неизменно опускались на вековые ветви, точно знали или узнавали этот лесной клинышек, сохранившийся от стародавних времен как бы для того, чтобы дать им убежище во время краткого ночного привала.
В долине широко раскинулись пастбища, изрезанные сточными канавами, разделенные живыми изгородями; а за ними река, до этого места искусственно углубленная и судоходная, разлившись, образовала огромное болото. В жизни я не видел угодий благодатнее для охоты, и мой родич обихаживал их, точно какой-нибудь парк. Через необозримые камышовые заросли, которые наполняли болото дыханием, шелестом, трепетом, охотники плыли по узким просекам на плоскодонках, отталкиваясь и правя шестами, беззвучно скользя по недвижной воде, шурша камышами, и рыбы прыскали от них, скрываясь в тине, а болотные курочки ныряли и прятали под воду свои черные, островерхие головки.
Я люблю воду необузданной страстью: люблю и море, хотя оно слишком большое, слишком всегда подвижное, только самому себе принадлежащее, люблю и реки, такие прелестные, но уходящие, убегающие, ускользающие, особенно же люблю болота, где скрытно бьется жизнь всяческой водной твари. Болота — это особый мир на земле, непохожий ни на какой другой, он существует по собственным законам, у него свои постоянные обитатели и залетные гости, свои голоса и шумы и, главное, своя загадка. Ничто на свете так не смущает душу, так не тревожит, а порою и пугает ее, как болота. Но откуда берется этот страх, парящий над покрытой водою низиной? И что уподобляет ее некой созданной воображением стране, грозной стране, хранящей непостижимую и смертоносную тайну — глухое ли бормотание камыша, или фантастические блуждающие огоньки, или нерушимое молчание, царящее там в безветренные ночи, или причудливые лохмотья тумана, которые цепляются за высокие камышины, точно саваны покойниц, или тот еле различимый плеск, такой тихий, такой мелодичный, но иной раз более жуткий, чем грохот людских пушек или небесных громов?
Нет. Тайна, которую источают болота, которую всосали в себя их густые испарения, куда глубже, куда значительнее — это, быть может, тайна самого творения! Ибо не в этой ли стоячей, илистой воде, не в этой ли насквозь пропитанной сыростью вязкой земле шевельнулся под знойным солнцем, и весь напрягся, и раскрылся навстречу дню первый зародыш жизни?
Я приехал к Карлу вечером. Было зверски холодно.
Мы уселись обедать в огромной столовой, где и стены, и буфеты, и потолок были увешаны чучелами птиц; одни как бы летели, распахнув крылья, другие сидели на прибитых гвоздями жердях, — перепелятники, цапли, совы, козодои, сарычи, ястребки, грифы, соколы, — и за трапезой Карл, обряженный в куртку из тюленьей шкуры и сам похожий на диковинного полярного зверя, подробно рассказывал мне, какие распоряжения он сделал насчет охоты, предстоявшей нам нынешней же ночью.
Мы выйдем из дому в половине четвертого и в половине пятого будем на месте. Там сложена изо льда хижина, в ней мы будем спасаться от жестокого предрассветного ветра, который словно заряжен холодом и вгрызается в кожу, как пила, режет, как острый нож, прокалывает, как ядовитое жало, щиплет, как щипцы, обжигает, как огонь.
— Ну и холодище, — говорил мой хозяин, потирая руки. — Просто не помню такого: шесть часов вечера — и уже двенадцать градусов ниже нуля.
Сразу после обеда я забрался в постель и уснул при свете пламени, пылавшего в камине.
Ровно в три меня разбудили. Теперь уже и я надел на себя овчинную шубу, а Карл — медвежью доху. Мы выпили по две чашки обжигающе горячего кофе, сопроводили их двумя рюмками коньяку и вместе с лесником и двумя нашими псами, Плонжоном и Пьерро, отправились в путь.